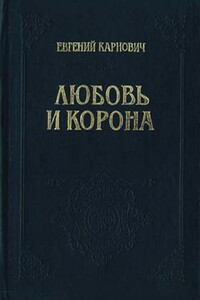Печально и невыносимо медленно тянулся для Анны Леопольдовны каждый день заточения. Она знала, что завтра будет то же самое, что было сегодня и вчера. Как потерянная бродила она по комнатам своего угрюмого жилища; даже прогулка вне его дозволялась ей только летом, на короткое время, и притом на небольшом, со всех сторон отгороженном пространстве. Убийственная тоска томила её всё сильнее и сильнее; она не имела никого, с кем бы могла отвести душу в дружеском разговоре, как это бывало прежде, когда с ней жила Юлиана. Она не могла даже развлечься чтением, так как ей дозволено было давать только книги духовного содержания. Все сношения её с кем бы то ни было из посторонних, кроме находившейся при ней прислужницы, были пресечены, и она не знала не только о том, что делалось за оградой её тюрьмы, но даже и о том, что делалось за стенами её собственного тесного жилища. Вид её мужа, к которому она теперь стала чувствовать привязанность, как к единственному близкому ей человеку, преданному ей и покорному пред нею, увеличивал ещё более её страдания. Принц Антон безропотно переносил свою горькую участь и служил для Анны живым и постоянным укором за всё её прошедшее. Дети не утешали её; напротив, даже нагоняли на неё самые тяжёлые, неотвязчивые думы; глядя на своих несчастных малюток, она вдавалась в отчаяние, предвидя их печальный жребий. Но всего более мучила принцессу судьба похищенного у неё и неизвестно куда сокрытого старшего сына и бесследно исчезнувшей Юлианы…
Не только действительность, окружавшая молодую страдалицу, но и страшные сновидения беспрестанно возмущали её. Часто в тревожном забытьи, заменявшем теперь для неё спокойный, подкрепляющий сон, ей грезился её несчастный «Иванушка». То представлялся он ей в том царственном величии, которое должно было бы быть его уделом, и тогда сердце матери начинало биться радостным трепетом. То являлся он ей жалким бедняжкой, в лохмотьях и рубищах, с испитым лицом; тоскливо смотрел он на свою мать, как будто желая сказать ей что-то. Анна кидалась к малютке, но сновидение быстро исчезало. То виделся он ей в каком-то беспредельном пространстве, в сонме ангелов и херувимов, и, уносясь в светлую даль с весёлым личиком, манил её к себе своей ручонкой. Анна тщетно рвалась к нему, болезненно замирало у неё сердце, и она пробуждалась с громким, отчаянным плачем. Но самым мучительным для Анны сновидением было повторение её прощания с сыном. В это потрясавшее её мгновенье пред нею оживала действительная разлука, со всеми ужасами отчаянья и томления. Грезилась ей и Юлиана, то в виде весёлой, беззаботной девушки, какой она была когда-то, то в виде страдалицы, убитой горем; являлся ей в сновидениях и Мориц, и тогда призраки минувшего воскресали перед ней… Все эти грёзы принимали какие-то фантастические образы, при которых печальная действительность смешивалась с причудливой игрой расстроенного воображения.
Встревоженная сновидением, Анна Леопольдовна быстро вскакивала с постели и выбегала за перегородку своей спальни. Там, как обезумевшая, долго рыдала она или при белесоватом свете зари, не гаснувшей на ночном летнем небе, или при ярком свете месяца, проникавшем в долгие зимние ночи в окна её жилища. Тоска и отчаянье щемили её сердце, и она чувствовала, что скоро не станет у неё сил, чтобы переносить истомившее её горе. Между тем прибавилась ещё новая скорбь: Анна Леопольдовна опять готовилась быть матерью третьего ребёнка, рождённого в неволе, и 8 февраля 1746 года в холмогорском заточении появился на свет Божий новый узник, окрещённый под именем Алексея, с такой же таинственностью, с какой был окрещён брат его, Пётр.
Измученная тяжёлой жизнью и изнурённая трудными родами, лежала Анна Леопольдовна в постели в полузабытьи, когда в соседней комнате послышался сдержанный шёпот между хлопотавшим около неё врачом Манзеем и приставленным к ней для надзора майором Гурьевым.
– Мне необходимо видеть сейчас же принцессу, чтобы лично вручить ей эту бумагу, – настоятельно шептал майор доктору.
– Принцесса так слаба, что я опасаюсь за её жизнь; она может умереть каждую минуту, – прошептал Манзей.