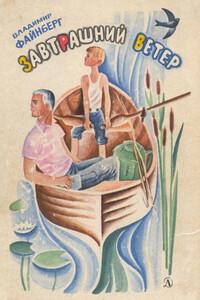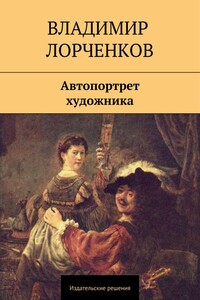Одна из сотен тысяч, а может быть — миллионов русских женщин в платочках, из тех, кто наполняет церкви по всей Руси, она была человеком без возраста, без единой яркой черты, выделяющей её среди всех остальных.
Впервые я обратил на неё внимание только потому, что однажды хмурым ноябрьским утром, выйдя после богослужения из храма, увидел, как она, без пальто, только в платочке и кофте, торопливо идёт под ледяным дождём с накрытой тарелкой в руках.
— Батюшка ещё не выходил? — спросила она.
— Нет, — ответил я. — Ещё идёт целование креста.
Она облегчённо вздохнула. Предложила:
— Володь, возьми оладушку. Успела сготовить. Ещё тёплая.
Я удивился тому, что она знает моё имя. Оладушку взял. Оладушка действительно была тёплая, из чего следовало, что женщина живёт где-то очень близко. И пока она шла к церковному домику, куда после службы приходил отец Александр Мень, я посмотрел поверх церковной ограды на раскисший от грязи проезд, за которым тянулись пришибленные временем и нищетой типичные для Подмосковья избушки с подслеповатыми оконцами, на трубы, откуда уже по-зимнему сиротливо тянулись дымки.
И каждый раз, выходя после службы на паперть, я видел, как она торопится со своей накрытой тарелкой накормить чем-то домашним, вкусным отца Александра. Как она ухитрялась отстоять службу, успеть сбегать домой и все приготовить?
Со временем я узнал, что её зовут Мария Яковлевна.
Чем больше ширился приход, чем больше обожали мы отца Александра, тем сильнее ревновал хмурый настоятель. В бессильной ярости однажды подговорил одну из певчих на клиросе совершить дикий поступок: попытаться сорвать с отца Александра облачение. Потом вдруг запретил Марии Яковлевне приносить для отца Александра еду из дома.
Но она всё равно продолжала носить.
— Володь, береги его, — не раз говорила она.
(Мария Яковлевна умерла за несколько месяцев до его убийства, и, таким образом, ей не пришлось пережить того горя, какое пережили мы все.)
Как-то я опять столкнулся с ней в церковном дворике. Лицо её, обычно светлое, открытое, было на этот раз черным.
— Мария Яковлевна, что с вами?
— Обижают… — ответила она. И я увидел текущие по щекам слезы.
— Кто обижает?
Не ответила. Пошла дальше.
Позже отец Александр рассказал мне, что её уже давно тиранит и даже колотит сорокалетний сын-пьяница, который живёт на её жалкую пенсию.
Сколько таких безответных женщин, таких судеб вокруг нас, когда приходится одиноко нести свою трагедию, стыдиться кому-нибудь об этом сказать… Разве что священнику.
По наивности своей я захотел разобраться с её сыном. Но она запретила.
В субботу с утра пораньше я поехал на троллейбусе в Серебряный Бор. Разгоралось чудесное апрельское утро, и я был даже рад тому, что просьба приятеля вырвала меня из надоевшей за зиму нудоты будней.
Не прошло и месяца, как одним из первых горбачевских указов приятель был досрочно освобождён из ссылки. С триумфом вернулся в Москву. Теперь все у него было хорошо. За исключением здоровья. Всё время находился как бы под прицелом очередного приступа астмы. Для собственного спокойствия ему нужно было всегда иметь при себе упаковку таблеток дефицитного лекарства. И вот накануне позвонил мне с просьбой срочно его достать.
С вечера я стал обзванивать дежурные аптеки. Безрезультатно.
Вообще-то у него была жена, взрослые сын и дочь. Но он обратился ко мне, как обращался ко всем, кто сочувствовал его диссидентской деятельности. Просил, чтобы прятали его рукописи, сжигали на дачных кострах «тамиздатские» журналы и книги, за чтение и распространение которых арестовывали. Поручал развозить по тайным адресам какие-то записочки.
Однажды, на ночь глядя, он ворвался ко мне, потребовал спички, заперся в туалете и принялся сжигать там листок за листком записную книжку.
— Открой дверь! — крикнул я. — Задохнёшься от дыма. Будет приступ.
Мы оба ждали, что сейчас ворвутся те, кто за ним следил. Но всё обошлось.
Высокий, худощавый, по-своему красивый, он был отважен. И требовал того же от других, тех, кто вовсе не собирался рисковать ни собой, ни своими близкими.