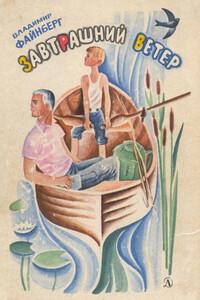«Скажи родителям, чтобы перевели тебя в другую школу», — посоветовал наш старенький учитель истории Аркадий Николаевич. Но я не стал жаловаться родителям. Они вообще ни о чём не знали.
Между тем наступала весна первого послевоенного — 1946 — года. Апрель.
Зная, что Васька, возвращаясь из школы, идёт по улице Горького к метро «Охотный ряд», я, как мне казалось, открыл для себя спасительный путь — проходные дворы. Оказалось, проходными дворами можно дойти до самого моего дома.
С портфелем, в распахнутом пальтеце шёл я по новому, открывшемуся мне почти безлюдному пространству, в то время как слева за высокими спинами зданий глухо рокотала улица Горького.
Ощущение безопасности становилось настолько сильным, что я даже начинал напевать и насвистывать где-то услышанную песенку — «В Кейптаунском порту с пробоиной в борту ”Жаннетта” поправляла такелаж…»
Пройдя насквозь один двор, я попадал во второй, выходил в переулок, быстро пересекал его и снова скрывался в очередном дворе.
Это был особый мир. До конца не убитый асфальтом и гранитом, как улица Горького. Кое-где здесь уже поднималась трава, крались за воркующими голубями беспризорные кошки, а в одном месте на задворках Моссовета я открыл очаровательную канаву, где из воды высовывалась коряга, на которой я однажды застал нескольких греющихся на солнышке лягушат.
В конце концов я огибал какую-то обшарпанную церковь, превращённую в склад, и выходил к своему дому.
«В Кейптаунском порту с пробоиной в борту ”Жаннетта” поправляла такелаж…» Почему-то волновало это название яхты — «Жаннетта». Думалось о ней, как о невстреченной девушке.
Недолго длились мои одинокие странствия по дворам. Однажды, в первый по-настоящему жаркий день я увидел Ваську. Он стоял в пустынном дворе рядом с кучей строительного мусора. Ждал меня.
Я приостановился.
В этот момент со стороны улицы Горького под арку впорхнула молодая женщина с авоськой, в которой серебряно сверкал какой-то музыкальный инструмент и высовывался букетик фиалок. Она опустила свою ношу на тротуар, откинула полу плаща и стала, пригнувшись, торопливо подтягивать спустившийся чулок, пристёгивать его к резинкам.
«Жаннетта поправляла такелаж», — мелькнуло в моём сознании.
Васькино внимание тоже переключилось на прекрасную незнакомку, на её «такелаж».
Как загипнотизированный, он приблизился к ней. Зачем-то поднял авоську.
Она испуганно оглянулась. Выпрямилась.
— Отдайте!
Васька невозмутимо отошёл в сторону и начал вытаскивать из авоськи музыкальный инструмент.
— Отдай! — крикнул я со своего места и, чувствуя, что этого делать не следует, все таки добавил: — Фашист!
Васька швырнул ей авоську и медленно пошёл на меня. Захватил по дороге из мусорной кучи обломок кирпича.
Я кинулся бежать к спасительной арке. «Жаннетта», как я уже назвал про себя незнакомку, каким-то образом на миг запуталась между нами и этим, вероятно, спасла мне жизнь.
Я вылетел через арку на улицу Горького, пробежал поперёк потока машин на ту её сторону, где была гостиница «Центральная».
Услышал сзади какой-то резкий хлопок. Оглянулся.
На мостовой лежал сбитый насмерть Васька с обломком кирпича в руке.
Вот тут я впервые увидел, как может померкнуть весенний день.
Гудели останавливающиеся автомашины, сквозь толпу зевак пробивался милиционер. А я стоял на краю тротуара, сломленный тяжестью навалившейся вины. Хотя и не знал, в чём она заключается.
С полотенцем через плечо и мыльницей в руке, четырнадцатилетний шестиклассник, я несколько раз в день проходил длинным коридором нашей коммунальной квартиры. Слева тянулись двери пяти комнат, справа четырёх. В конце была общая кухня, а не доходя до неё, дверь, за которой находились два туалета и два умывальника.
За кухней, в самом конце коридора, имелось небольшое окно, выходившее в упор на глухую торцовую стену соседнего дома.
С некоторых пор, возвращаясь из школы, я стал замечать стоявшего у этого окна мальчика.
Он был явно младше меня, бледный, вихрастый. Стоял и смотрел в окно, за которым, кроме стены, ничего не было. Каждый день стоял и смотрел.
За его спиной была последняя, крайняя комната, где он жил со своей матерью.