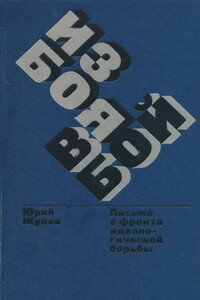Не все в русской Реформации шло поперек православия. В это время менялась и сама русская церковь. В ней появляются такие люди, как Феофан Затворник и Иоанн Кронштадский — люди новой генерации, живущие в духе, но не уходящие от жизни. Церковь начинает выходить за пределы церковной ограды. Возможно, лучший тому пример — религиозно-философские собрания в 1901–1903 годы, на которых духовенство и представители светской культуры совместно обсуждали проблемы взаимоотношения церкви, интеллигенции и государства, свободы совести, церкви и брака, христианской догматики.
Если бы не фатально накатившая на Россию океанская волна революции, разворотившая и смывшая с поверхности истории всю прежнюю русскую жизнь, мы сейчас были бы другой страной. Я не стыжусь сослагательного наклонения. Только оно сообщает истории подлинную реальность.
Source URL: http://www.saltt.ru/node/5576
* * *
Лев Толстой как зеркало русской Реформации
Вячеслав Раков /19 ноября 2010
Толстой в моем представлении — критический центр русской Реформации. В Толстом, вероятно, лучше, чем в ком-то еще в то время, представлен дух религиозного протеста против сугубо официального, как ему казалось, православия. Если у Соловьева мы видим не столько критику, сколько попытку положительного обоснования религиозно-философской доктрины, обнимавшей христианство, немецкую философию и гностицизм, то Толстой прежде всего противоречит. Протестует. Он протестант — чем дальше, тем больше. В конце концов протест становится для него самоцелью, и он получает то, что неизбежно напрашивалось: определение синода Русской православной церкви от 20–22 февраля 1901 года, гласящее: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».
А начиналось все с кризиса рубежа 70–80-х годов XIX века. Начитавшись, грубо говоря, Шопенгауэра, Толстой впал в пессимизм и в мысли о самоубийстве. Он «прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате... и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления себя от жизни». Свой выход из кризиса он описал в «Исповеди»: нужно доверять жизни, воспринимать ее как дар, нужно держаться стихийного здравого смысла, как это делает простой народ, и тогда смерть будет выносима. Посмотрите, как эпически-спокойно умирают крестьяне («собрался умирать, а рожь сей»), и как нервно это выходит у нашего брата, у образованного.
Отсюда, с «Исповеди», Толстой-писатель все более вытесняется Толстым-моралистом и Толстым-идеологом. Художественный градус его прозы, на мой слух, резко снижается. Поздний Толстой мне не слишком интересен. Разве что его дневники. Хотя поначалу его «обращение» дало мощный результат в «Смерти Ивана Ильича», результат все же, скорее, этический. Здесь Толстой вывернул наизнанку обманчиво-налаженное существование чиновника и человека, дав, вероятно, первый образец развернутой художественной аналитики смерти в истории русской литературы. И многих это проняло. И пронимает до сих пор. К этому Толстому можно отнести слова о. Александра Меня: «Толстой до сих пор является голосом совести. Живым упреком для людей, уверенных, что они живут в соответствии с моральными принципами».
Осознав свою власть над умами и душами читателей, Толстой уже не ограничивается только писательством. Он становится общественным деятелем и выдающимся гражданином, примером нам нынешним — жалким и пришибленным. Но и этого ему мало: он желает быть религиозным и идейным вождем. Толстой становится толстовцем и тут же обрастает верными последователями. Так бывает всегда, когда кто-то произносит: «я знаю, как надо». И теперь самое время поговорить о его третьем даре — религиозном.
Толстой был основательным человеком и к своему миссионерству относился серьезно. Чтобы в подлинниках знать христианские священные тексты, он учит древнегреческий и древнееврейский языки (в изучении последнего ему помогал московский раввин Шломо Минор). Он ведет беседы со священниками и монахами, ходит к старцам в Оптину Пустынь, читает богословские трактаты. Он присматривается к старообрядцам, встречается с молоканами и штундистами. В 1891 году он издает в Женеве свое «Исследование догматического богословия», в котором подвергает критике «Православно-догматическое богословие» митрополита Макария (Булгакова) — солидное богословское исследование, написанное, однако, довольно тяжеловесным и несколько схоластичным языком.