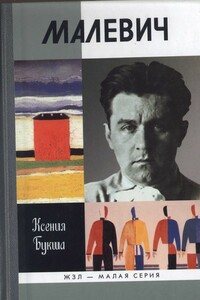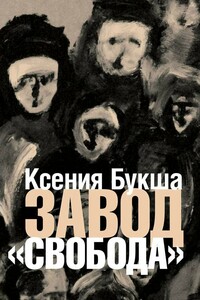- Но вы же отлично понимаете, - сказал Штейнман, переводя дух и снова начиная думать, - что повторится та же самая ситуация. Как тогда, в России. Ваше изобретение слишком сильное, мир его попросту не выдержит. Мир прогнется под ним. Нет, не прогнется: этого не допустит система... Вы просто не знаете, что это такое - система.
- Отлично знаю, - усмехнулся старик криво. - Сам на верхушке такой системы сидел. Не дадут, конечно. И за забором, что самое обидное, тоже никто не сможет оценить. Я там был. Там есть вменяемые люди - бесстрашные, сильные, - но они не умеют мыслить широко. Попробуй-ка, если каждая минута как последняя. Ничего не вырастет в таких условиях, как ни колотись.
- Ужасно глупое положение, - сказала Франческа. - Вещь, нужная всем, не нужна никому.
- И вот тут мы возвращаемся к вопросу господина Штейнмана, - заметил старик. - Как вы изволили спрашивать? Кто выиграл? Кто кого имел?
Пусть мир - это весы с двумя чашками. Если на одну чашку бухнуть мое изобретение, другая взлетит, и равновесия не будет никогда... Пока кругом только сделки и борьба, конечно, никто этого не допустит. Нет, сделки - это отлично. Но кое-что сделками не решишь. Кроме борьбы, есть и соединение. Когда уже не смотрят, что там показывают весы? в чью сторону? кто кого отымел, уделал, победил? - когда и где это станет неважно, тогда и там мое изобретение будет иметь смысл. Только тогда. Только там.
И старик опять застыл неподвижно. Видно было, что он привык к этой позе: прямой, как король на троне, с сигаретой в коричневых пальцах, лицо сосредоточенное, глаза полуприкрыты.
Леви Штейнман хотел было что-то сказать, но тут дунул в окно дымный ветер и раздался первый удар грома. Начиналась буря.
24
В это время в городе еще вовсю светило солнце, уже, правда, совсем большое и неприлично красное. Певица Марица отпела свое, ее отвели за нежные ручки в самолет, и она полетела гастролировать дальше, на прощание пообещав спеть на этой же площади ровно через полгода. Пробки немного рассосались.
В это самое время Маккавити и Лефевр сидели, строгие и выпученные, и, едва удерживая смех, сердито смотрели поверх стола. С той стороны ерзали банкир Бакановиц и нефтяник Серпинский. Свиты их толпились за дверями, переругиваясь, а сами они были ужасно смущены.
- Я, - сказал Бакановиц, поднимая на Маккавити свои ясные от страха глаза, - понимаю только одно: нам надо немедленно договориться. Эмоции не должны мешать принятию правильных решений...
- Умный очень! - промолвил Маккавити. - Вот терпеть не могу всяких пафосных типов! - он развернулся, здоровенный, рыжий и драчливый, и ткнул своим толстым пальцем прямо банкиру между глаз. - Всегда вас имел, имею, и буду иметь!..
- Самое интересное, - сказал Лефевр, посмеиваясь, - что никакого русского, по правде говоря, вообще нет. Как и водяного топлива, естественно. Как вы в это поверить-то смогли, я не понимаю.
- Вы школу кончали? - поддел Маккавити. - Физику там учили?
Сам он, впрочем, никакую школу не "кончал", а работал с детства на кукурузных плантациях и бродяжничал.
- Я лично в школе учился, - праведно заметил Элия Бакановиц. - А вот как он - не знаю!
- Выдохните, господин Серпинский, - посоветовал Маккавити. - Я давно за вами наблюдаю. Вы вдохнули, а выдыхать не желаете. Эдак и разорвать может, знаете ли. Или еще можно пернуть.
- Я тоже учился, - оправдался Серпинский, от сдерживаемого гнева густо багровея и становясь еще страшнее. - А Бакановиц в пятом классе имел по математике - знаете, что?..
- Ага-а! - заверещал торговец. - А кто в три года отгрыз у игрушечной собачки неприличное?..
- А кто воровал конфеты у бабушки из буфета?
- Ну, знаешь, уж кто бы говорил про бабушку!..
Они сидели перед Лефевром и Маккавити и клепали друг на друга, и клеветали, как два пацана в школе, как две бабы на базаре. Маккавити знал, почему: они хотели снизить суммы штрафа себе и увеличить - другому. Это была увлекательная и интересная игра, но Маккавити поглядывал на часы: через полчаса они договорились с другими сотрудниками отмечать день рождения Лефевра.