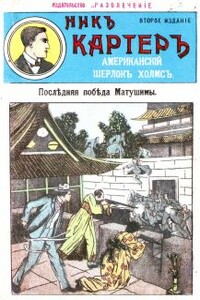Растянутый на долгие годы акт суицида собственной матери шокировал Ника. Он решил, что страдалицу надо вылечить от алкоголизма и дать ей шанс счастливо стареть до смерти.
Людмила Витальевна сопротивлялась этому плану, как умела: напивалась, в любой момент, когда Ник не мог ее контролировать, сбегала от врачей, удирала из клиник, даже меняла места жительства и замки на дверях.
Но вскоре случилось страшное: у Витальевны обнаружили рак. Возможно, она и не очень-то расстроилась, но Ник испугался страшно. Лечение было дорогостоящим, а денег не хватало. Более того, на какой-то стадии болезни лечащий врач сказал, что если процесс не затормозится в ближайшем будущем, то потребуется лечение в немецкой клинике.
Тогда Ник продал что было, влез в долги и сначала арендовал, а потом и купил полуразвалившийся кондитерский цех одного из хлебозаводов. Он был очень молод, не имел в делах никакого опыта и был доведен до отчаяния, именно поэтому у него все и получилось. В делах двадцатишестилетнему парню помог друг его покойного отца – Вадим Сидорович Мащенко, то есть Сидорыч.
Всего за год Сухарев сумел заработать денег и на лечение матери, и на приличную жизнь для нее и для себя. Он женился, купил дом, новую квартиру для своей матери. В девяносто девятом, после смерти жены, Сухарев отказался от планов развивать булочный бизнес, а потом и вовсе продал свой хлебозавод и занялся строительством ресторана. Когда же появилось здание, несуразное для людей, выросших в эстетике хрущоб, все вокруг решили, что вот и пришел конец процветанию этого хорошего парня – Ника Сухарева.
Через несколько лет после этого он сделал мне предложение. Ресторан требовал больше сил, чем прежний бизнес, а Митька постепенно выходил из-под контроля.
Действительно, развлекательный комплекс «Джаз», придуманный и построенный моим супругом, отнимал у него по двадцать часов в сутки. Это было заведение невероятного для Гродина масштаба и формата.
Располагался «Джаз» в центре города, на месте жутких трущоб. Это был район бараков, где когда-то жили люди, занятые созидательным трудом на строительстве Гродинского химического завода. Планировалось трущобы эти снести, как только строителей переведут на другой гигантский объект. Вот только Советская власть решила сэкономить. Рабочих, инженеров и даже ученых-химиков, собранных по всей стране для реализации великой идеи (сейчас никто не помнит – какой), тоже поселили в эти самые бараки.
Уничтожили их только пять лет назад. Теперь на этом месте стоял «Джаз» – невероятное здание невероятной формы, фасады которого были облицованы листами гофрированной стали. Местный архитектор, представьте себе, подражал Фрэнку Гери, и хочется заметить, собезьянничал он ловко. Наш «Джаз», конечно, был в десятки раз меньше и не настолько великолепен, как Музей Гуггенхайма в Бильбао, но аналогии имели место быть. Я была в Испании, в этом самом Бильбао, – великий старший брат «Джаза» показался мне родным.
Строительство этого чуда-юда было делом непростым. Впервые увидев эскиз нового здания, Ник пришел в полный восторг и поклялся усами своего дедушки, что постоит это во что бы то ни стало. А стало это в большие деньги и в долгие сроки строительства.
Интересно, что здание развлекательного комплекса имело два основных входа с двух параллельных улиц. То есть его ширина вполне соответствовала ширине небольшого квартала между улицами Ленина и Менделеева. Вход в ресторан находился на улице Ленина, а в ночной клуб – с Менделеева.
Так было специально задумано: ресторан – для респектабельной публики, а ночной клуб – для шухерной молодежи. Встречаться тем и другим было ни к чему. Что хорошего, если обкуренная дочка председателя городской думы со своим бойфрендом-наркоманом встретит у ночного клуба своего папу, обнимающего блондинку, но не маму? Кому от этого будет приятно?
В комплексе были еще и бар «Хемингуэй», и боулинг, и бильярдная, и много чего, куда можно было попасть и со стороны ресторана, и со стороны ночного клуба.
За всю свою жизнь в ресторанах я провела не слишком много времени, поэтому мои восторги по поводу интерьера комплекса «Джаз» звучали бы слишком провинциально даже для нашего захолустья. Но «Джаз» нравился и тем, кто видел гораздо больше моего. Все-таки это было достаточно красиво: черные и белые плитки на полу, выложенные в шахматном порядке, красные кирпичные стены, украшенные черно-белыми фото Эллингтона, Армстронга, Глории Гейнор, Утесова, знаменитых диксилендов и видов Нью-Йорка начала двадцатых годов прошлого века. Мебель выглядела тоже очень солидно: белые кресла и черные диваны, белый рояль на небольшом подиуме, по вечерам выполнявшем роль сцены. Под потолком висели сверкающие люстры – самая помпезная деталь на общем черно-белом фоне. Люстры зажигались только во время банкетов. В остальные дни, в том числе и во время джазовых концертов, в зале царил полумрак.