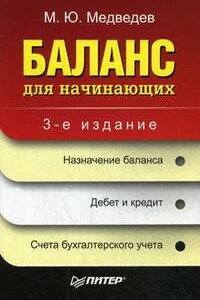Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России - страница 12
Распространение мистицизма при Александре I, в общем, также было подготовлено при Павле. По крайней мере, все александровские мистики-сектанты старшего поколения выносили свое отношение к официальной церкви под впечатлением павловских попыток ее внутреннего обновления. Государственный мистицизм, в который к концу жизни погрузился Александр I и его приближенные, мыслился как духовная опора против «разрушения духа», которое не могла остановить временная победа над политическим наследием Великой французской революции.[19]
Во всем этом было не столько «мракобесие», как все время у нас писалось, сколько государственный космополитизм, помноженный на общий романтический настрой александровского времени. Но эпоха государственного романтизма окончилась на рубеже 1820-х годов, а с ней и попытки духовной реформации для предотвращения революции политической. Эпоха Николая I связана уже с попытками предложить охранительную идеологию в ее вполне «земной» политической форме.
Сложнейшие идеологические конструкции вроде уваровской «триады» обнажают претензии власти на провозглашение единственной истины о себе самой и неуверенность в убедительности этой истины.[20] Идеологический монополизм николаевского правительства был бы прочен, если бы под «уваровским» знаменем оказалось достаточное число убежденных приверженцев. Цель же принятой на вооружение теории «официальной народности» при этом осталась прежней — оправдать единовластие в России, как необходимое, и снять уже созревшие на левом фланге русской общественной мысли обвинения власти в деспотизме и незаконности. Таким образом в 30-е гг. XIX в. в оборот был пущен новый государственный идеал, опирающийся, как не без казуистического изящества доказывалось С. С. Уваровым и его клевретами, на исторические основы русской жизни — самодержавие, православие, народность (некий особый «русский дух», аккумулирующий в себе первые два начала). Поскольку новый идеал был четко очерчен, отныне власть можно было уличить только в отступлениях от него (каковые не замедлили обнаружиться), но не в ее несоответствиях общечеловеческим правовым и моральным нормам. «Мир» (общество) и «власть» с этого времени выражают свое понимание общественного идеала в разных категориях. Тот «водораздел» между обществом и властью в России, о котором так любят рассуждать западные историки, только теперь становится непреодолимым.
Можно предположить, что если бы охранительная конструкция, подобная уваровской, появилась раньше, при Александре I, то непрочное положение царя-реформатора оказалось бы подкреплено тезисом об оправданности миссии и действий власти, куда бы она ни вела страну, и путь «прогресса», на который все время неудачно направлял Россию Александр, таким образом получил бы дополнительное обоснование с помощью традиционных понятий. Драма конституционных неудач, возможно, не разыгралась бы, пойди Александр по пути Павла или Николая I и обратись он за помощью к охранительным идеям, вступая на путь практической либерализации государственных и общественных институтов.
Система регламентации общественной жизни, на которую ориентировалась павловская политика, сопровождалась тонко продуманной внешней атрибутикой. Атрибуты менялись, но преемники Павла I не отступили от самой идеи регламентации, «огосударствления» частной жизни, культуры и быта. «Табельные дни», культ вахтпарада, на который был ориентирован распорядок дня столичного жителя, дифференцирующая общество по степени государственной полезности лиц и должностей система чинов, орденов и отличий, повсеместное «обмундирование» чиновников, начатое Павлом (а при Николае стали обязательными мундиры и для придворных дам), делопроизводство, достигшее изощреннейших форм, — все эти элементы общественной жизни, внедряемые сильной рукой, складывались в государственно-центристскую по содержанию и военно-бюрократическую по форме систему общественных ценностей и опор порядка. Эта система после Павла I усложнялась по линии дальнейшей бюрократизации и одновременно идеологизации не только служебных отношений, но и внеслужебного мира человека. Между личностью, автономия которой было забрезжила вместе с Жалованными грамотами Екатерины II дворянству и городам, и государством была поставлена всемогущая бюрократия.