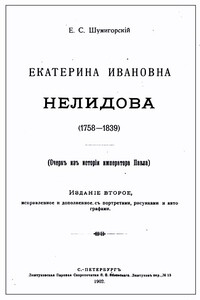Павел Петрович возвратился из Берлина под влиянием «сильного действия заражения мыслей», на которое так еще недавно плакался Никита Панин, но на этот раз к выгоде Панина по духу, политическим симпатиям, он стал чистым пруссаком, а уверенность в дружбе Фридриха II, на которого с уважением смотрела вся Европа, давала ему некоторую опору, которой он не чувствовал прежде. Молодая его супруга, отличавшаяся необычайною привязанностью к семье своей и в прусскому королю, ее покровителю, не имела политического ума и широкого кругозора и только укрепляла прусские симпатии своего мужа; вдобавок, она получала инструкции от своей матери из Германии и в разладе своего мужа с Екатериной, сохраняя все внешние знаки почтительности к ней, всецело обвиняла ее, считая мужа, жертвой ее честолюбия и развращенности нравов. При таком настроении великокняжеской четы граф Панин сделался другом ее и руководителем тогда как его племянник, князь Александр Куракин, человек образованный, но легкомысленный и тщеславный, как друг детства цесаревича, заступил место Разумовского в его сердце: Павел называл его даже своею «душою». От Екатерины не укрылось настроение сына и невестки, но, в сознании своей силы и умственного превосходства, она относилась к их действиям снисходительно, следуя раз навсегда принятому правилу. «Moi, — писала она однажды Гримму, — à tout cela je réponds comme le Barbier de Séville: Je dis à l’un: Dieu vous bénisse, et à l’autre: va te coucher, et je vais mou train»[25]. На самом деле действия малого двора не были так невинны и требовали большего внимания на себе Екатерины, которая, разочаровавшись в эгоистической дружбе Пруссии и «старого Ирода», как стала она называть Фридриха II, уже думала разорвать союз с ним и заключить новый — с Австрией. Граф Панин, заправлявший еще иностранными делами, сообщал цесаревичу тайком все депеши, а тот, в свою очередь, морально поддерживал прусского короля. Это настроение цесаревича особенно проявилось в — беседах его с Густавом III, королем шведским, приезжавшим в Петербург в 1777 г., и во время столкновения Австрии с Пруссией в 1778, прекращенного Тешенским миром, условия которого продиктованы были Россией, взявшей на себя посредничество. В основе этих симпатий цесаревича в Пруссии была еще не вполне продуманная мысль, внушенная Паниным, что для России нужен мир, для обеспечения которого союз с Пруссией являлся будто бы вполне удобным средством, тогда как союз с Австрией увлекал нас в завоевательной политике, проводником которой был Потемкин.
В оценке дел внутренних руководителями цесаревича явились те же Никита Иванович и Петр Иванович Панины. Что именно внушали братья Панины Павлу Петровичу, хорошо видно из того проекта манифеста, который граф Петр Панин, единомысленный с братом, еще при жизни Екатерины, приготовил в 1784 г. для Павла «к изданию при законном, по предопределению Божескому, восшествии на престол Наследника»: «Призирающе всегда на отечество Наше, а особливо при опасных случаях, — милосердие Всевышнего Творца соизволило Нас как единый остаток уже крови, предопределенной Святым промыслом Его к обладанию Всероссийского Престола, возрастить со младенчества безотлучно в недрах Нашего отечества и, сохранив чудесно от разных бедственных угрожений, угодно стало Святой Его воле возвести Нас на Прародительский Престол, руководствуясь и в сему, что Мы, поелику созревали в возрасте, потоливу входило в Наше примечание и внимание все то, что, от царствования незабвенной никогда памяти покойного Прародителя Нашего Государя Петра Великого, вовлечено зловредного в отечество Наше, какими соблазнами и чьими похитительными алчностьми от захвативших доверенности Государей своих во злоупотребительное самовластие, и что оныя зловредности окоренились (sic) в Государстве Нашем до такой степени, что большую часть сынов Российских совратили с коренного Россиян праводушия, прежде утвержденного на страхе Божеских, естественных и гражданских законов, а развращением общего благонравия снизвергли всю святость законов частью в неисполнительное ослабление, а частью и в совершенное попрание, предпочитая законам при всяких случаях собственную каждого корысть и домогательство до возвышения в чины не деятельными заслугами Отечеству и Государю, а ухищренными происками и угождениями страстям и требованиям захвативших силу в свое злоупотребление. Мы, взирая на все оное с содроганием сердца, но с великодушной терпеливостью, соблюдали во всей неприкосновенности заповеди Божии, законы естественные и гражданские, и не позволяли Себе по тогдашнему Нашему природию (sic) и законами обязательству ничего, кроме един-единственного разделения наичувствительнейшего прискорбия со всеми теми усерднейшими и вернейшими детьми отечества, которые с похвальною твердостью душ не попускали прикасаться к себе никаких соблазнов на государственное уязвление, но, пребывая в безмолвии, не могли скрывать только от Нас душевных своих страданий»…