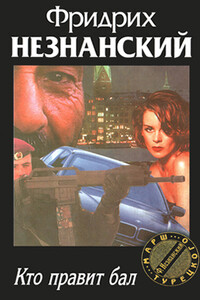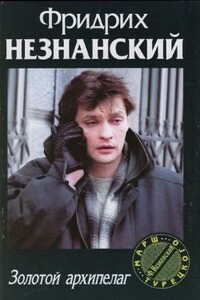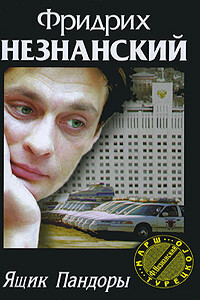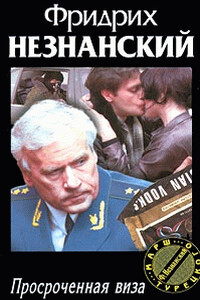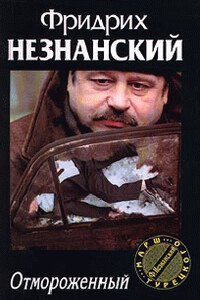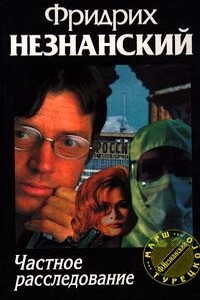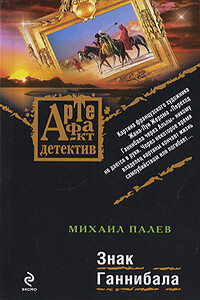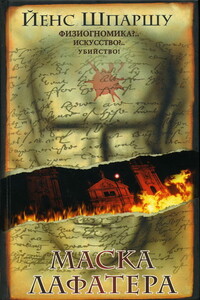— Могу вас успокоить, — сказал Турецкий, хотя вовсе не был уверен в том, что говорит, — уж кто- кто, а вы-то здесь наверняка ни при чем. Такова наша планида, знаете ли, что в нашем устранении, ликвидации и так далее почти всегда кто-то заинтересован. Причем, как ни странно, порой нашей смерти одновременно хотят люди, являющиеся злейшими врагами. Ну да ладно... Итак, вернемся к этому слову «оборотень». Простите. Наташа, конечно, такие вопросы задавать не слишком этично, но здесь опять же специфика нашего скучного ремесла... Вы рассказали мне многое. А я как будто пользуюсь вашим доверием. Но сейчас это страшно важно. Скажите, на теле Клемешева есть какие-то приметы, ну, рубцы, шрамы, татуировки, быть может, что-то еще, какие-то характерные особенности?
— Да, у него есть две татуировки, обе на руках ниже плеча. Наверное, была и третья, не помню, то ли на правой, то ли на левой руке, на тыльной стороне ладони, между большим и указательным пальцами. Он, наверное, ее свел, то ли хирургически, то ли лазером, но следы остались...
— А вы помните, что это были за наколки? — спросил Турецкий.
— Конечно, помню, — ответила она. — Я вообще слишком многое помню и, как ни стараюсь, не могу забыть. Только могу перепутать, что на левой, что на правой руке.
— Ладно, неважно, попробуйте напрячь память и описать их как можно подробнее и точнее.
— Да я просто могу их нарисовать, — сказала Наташа. — Все-таки когда-то в художественной школе училась, память зрительная хорошая. Я помню, — сказала она глухо, — когда мы были с ним рядом, я часто смотрела на них, а однажды спросила, больно ли, когда это делают?
— И что он ответил?
— Он сказал, бывает кое-что и побольнее. Он вообще как будто уклонялся от точных ответов на вопросы, предпочитал такую, знаете ли, многозначительную отвлеченность...
— А откуда взялись эти татуировки, — спросил Турецкий, — и когда он их заимел?
— Тоже что-то не слишком вразумительное... Об одной он сказал, что такие «картинки» колют мальчишки-курсанты в офицерских училищах.
— А другая?
— О другой помню хуже, что-то вроде того, что это знак памяти о войне, об офицерской дружбе, о вечном братстве однополчан.
— Это точно? Он говорил о войне?
— За это могу поручиться. А что это значит? — спросила она.
— Это значит, — очень внимательно посмотрел ей в глаза Турецкий, — это значит, что в его жизни, кем бы он ни был и кем бы ни оказался, по всей видимости, была война. Вот вам бумага, садитесь и рисуйте. Сосредоточьтесь, чтобы ни один штрих не упустить. Там были какие-то буквы, слова?
— Ну конечно, — сказала она.
— Приступайте, Наташа! Сейчас от этого зависит чрезвычайно многое, если не все.
...Примерно через полчаса Турецкий увидел два рисунка. На одном — дубовую ветвь, три стрелы, гвардейскую ленту, а в центре этой маленькой композиции — силуэт парашюта, несущего два перекрещенных автомата и надпись: ВВУД-79. А на втором рисунке — черный круг солнца над тремя горными вершинами, барс в прыжке и несколько цифр.
— Вот именно эти цифры? — спросил Турецкий.
— Нет, на второй цифры взяты произвольно. Не помню.
— Ну, хорошо, — сказал он. — Пока вы рисовали, я заполнил анкетную часть протокола вашего допроса как свидетеля. К нему прилагаются ваши собственноручные показания. Напишите в конце «Написано собственноручно» и распишитесь на каждой страничке.
Она сделала то, о чем просил Турецкий.
Ему хотелось многое сказать ей, но... Что называется, язык не повернулся. Турецкий только улыбнулся, благодарно сжал ей руку и позвал Данилова:
— Вот что, Миша, проводи Наталью Сергеевну.
Но Наташа воспротивилась.
— Отлично доберусь сама. Еще не так поздно.
— Ну, хорошо, — сказал Турецкий. — Будь по- вашему. Только одна просьба — о дислокации моей лежки...
— Я понимаю, — ответила она.
— Если будут какие-то новости, — сказал Турецкий, — звоните вот по этому телефону. Это начальник областного угрозыска. Номер запомните, не записывайте нигде. Его фамилия Коренев, как актер, помните, человек-амфибия? Просто скажете: я такая-то, информация для Борисовича. Он поймет.