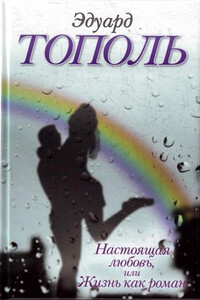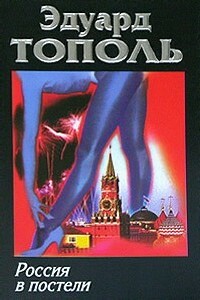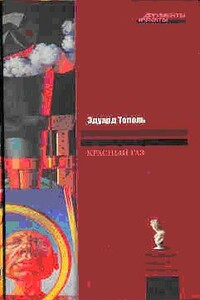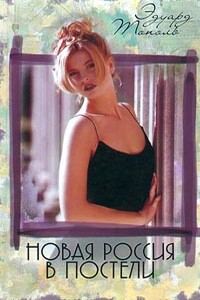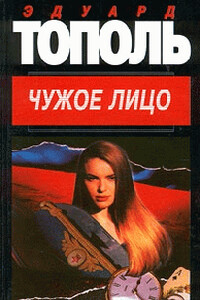В магазине уже не было ни ненцев, ни сватов, и дверь была изнутри заложена перекладиной, а продавщица сидела в углу на мешке с сахаром и со злыми слезами на глазах слушала, как в эту дверь стучали снаружи. Осторожно стучали, робко. Но она не откликалась.
– А, ты еще тут, – сказала она, увидев Гурьянова, и шмыгнула носом. – Ну, берешь брюки?
– Чего тут случилось? – спросил Гурьянов.
– Ничего. – Тыльной стороной ладони она утерла глаза и размазала по щеке краску от ресниц. – Берешь брюки?
Митя не ответил. Достал было из кармана носовой платок, но тот был несвежий, и Митя спрятал его и взял чистый платок с витрины прилавка, послюнявил краешек и стал вытирать ей краску со щеки.
Она подставила лицо, повторила вопрос про брюки:
– А?
– Нет, – сказал он.
– Почему? – спросила она, не обращая внимания на стук в дверь.
– Дорого. – Он убирал с ее щеки остатки краски.
Их глаза были рядом и лица тоже.
– Правильно, – сказала она. – Плохие брюки, синтетика. Я во вторник на базу слетаю, привезу тебе.
– А чего тут случилось?
– Ничего. Замучили эти женихи дурацкие. Видят, что одна. Спасибо. – И повернулась на очередной стук в дверь: – Ну, хватит, ну, Степан Прокофьевич! Вы ж замерзнете там!
– Я только спросить, Полина Андреевна, – сказали за дверью. – Я шапку оставил.
Она подошла к двери, сняла перекладину, открыла. Озябший Степан Прокофьевич вошел в магазин, подозрительно глянул на Гурьянова, взял шапку с дальнего конца прилавка и остановился, ожидая, пока Гурьянов уйдет.
– Ну, я пошел? – сказал продавщице Гурьянов.
– Зайди во вторник, за брюками.
– Спасибо. Не надо. Я уеду уже.
За спиной у него кашлянул Степан Прокофьевич.
– Ну, пока, – сказал Гурьянов продавщице и ушел.
В небольшом деревянном клубе гремел затертый твист. Раздевалки при клубе не было, просто в вестибюле стояли вдоль стен лавки, и тут же лежала одежда, а под ней рядами – валенки, унты. А в зале народу было густо, твист танцевали кто как мог, неумело, но старательно. При этом женская половина была поголовно в туфельках, а мужчины – и в сапогах, и в унтах, и только кое-кто в ботинках. Пожилые под твист танцевали фокстрот.
В радиоузле – тесной комнатенке за сценой – молоденькая, неполных восемнадцати лет диспетчерша местного аэрофлота Алена меняла на проигрывателе пластинки, а Фенька копался паяльником в разобранном магнитофоне, и Алена торопила его танцевать идти.
– Федь! – просила она.
– Сейчас, – отвечал он солидно.
Хмуро поглядывая на них, примечая интимность в их интонациях и взглядах, Гурьянов сидел у стены на топчане, зудил электробритвой, брился. Рядом две девчонки – активистки клуба – переобули унтята на туфельки и ушли в зал танцевать.
– Ну, Федя! – нетерпеливо сказала Алена, притвистовывая у проигрывателя.
– Сейчас, припаяю, и все, – отвечал Фенька. – Ты поговори с человеком, земляк же твой. Митя, она из Лихобор, землячка тебе.
– Ну? – удивился Гурьянов.
– Правда, – улыбнулась Алена. У нее были распахнутые голубенькие глазки и распевный вятский говор. – Мы у вас в заповеднике елки всегда рубили, правда, на Новый год.
– А чего – в Лихоборах ельника нет?
– А у вас красивей, – улыбнулась она. – Боялись ужасно.
– А что тебя сюда занесло?
Алена нахмурилась.
– По набору. А что это вы сразу на ты?
Распахнулась дверь, в комнату влетела раскрасневшаяся от танцев продавщица Полина.
– Привет! – сказала она всем и попросила Алену: – Аленка, нашу поставь и пошли!
– Познакомься, Поля, – церемонно сказала Алена, кивнув на Гурьянова. – Это Федин друг, они служили вместе.
– А мы знакомы уже. Здрасти. Ну, Аленка, ну, быстро!
– Что ты завелась? – строго выговорила ей Алена.
– Ну и завелась. Что – нельзя? Меня вон опять сегодня Степан Прокофьевич сватал, он видел. Вот выйду я замуж к черту! Пошли! – И за руку утащила Аленку в зал.
Гурьянов вопросительно глянул на Феньку.
– Сестры они, сводные, – ответил тот. И пояснил: – Ну, отец у них общий, бакенщик в Лихоборах.
– А муж ее где?
– Чей?
– Ну этой, Полины.
– Ах, Полин. – Фенька отвечал односложно, паяя что-то в магнитофоне. – Бросил он ее. С местной аптекаршей в Сургут смылся. Полгода, наверно. А что?