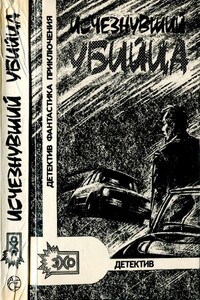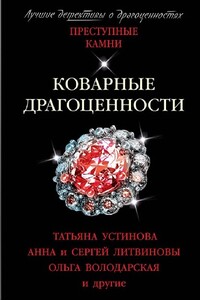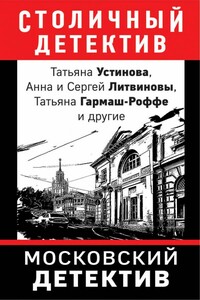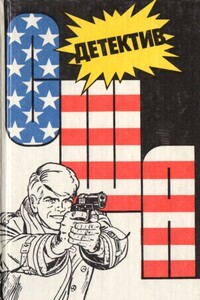Бонни: — Бонни любит кровь, понятно? Кровь ее волнует. Я поцелую ее, эту ужасную рану.
Памела: — Убирайся. Пожалуйста, пусть она меня не трогает.
Дракула: — Оставь ее.
Бонни: — Тоща зачем мы здесь?
Дракула: — Нет, нет. Памела, ты не понимаешь, что означает болевой предел? Его испытывают атлеты, и те, кто в состоянии его преодолеть, приходят в мир, где боль не существует. Разве это только представление, что можно одолеть боль? Ведь атлеты превращают это представление в действительность. Вот и мы пытается сделать то же. Когда боль становится наслаждением и наслаждение — болью? Принимай это все как игру, а себя представляй игроком.
Памела: — О Господи Боже, спаси меня! (Шум; со связанными ногами она пыталась добраться к дверям, грохот падения).
Дракула: — Ну, ты уже понимаешь? Я твой господин. Я приказываю, ты должна подчиняться.
Памела: — Только потому, что ты мне связал ноги, мерзавец.
Дракула: — Детали не важны, важен сам факт. Тебе достаточно представить себя рабыней…
Бонни: — Ну хватит. Давай что-то делать.
Дракула: — Нет, ты не понимаешь. Памела, преклони колени. Целуй мне ноги.
Последние слова я произнес размеренно, как добрый господин своему слуге. Ответом мне был поток мерзких оскорблений, которые я приводить не буду. Вообще не буду. То, что происходило потом, меня возбуждало и отталкивало, но я был разочарован. Игра должна была быть Вещью в себе, некоей самоценной действительностью. Но не вышло…
Примечание.
Я уже писал, что в том, что мы делали, был и секс, но его из Игры следует исключить. Что мы с ней проделывали в этом случае? Не помню.
Магнитофон. Вот в чем ошибка. Правда, Бонни так не думает, непрерывно слушает ленту и млеет от удовольствия. Но больше я не позволю. Меня пугает то, что звучит с ленты. Это не та правда, которой я ожидал.
Бонни. Как она кровожадна. Мои цели — чистота души, идеальные связи, ее — резать и истязать. Когда-то и я хотел того же? Да, но я хотел большего. Бонни ищет только удовлетворения для себя, а не идеальную Игру. Это недопустимо. С этим нужно кончать.
Вчера вечером она смеялась надо мной, спрашивая, почему Дракула забыл свою роль вампира. Но меня волнует Игра, ее абстрактное совершенство. Я не люблю запаха крови.
Все это я пишу на другой день, в субботу, в состоянии глубокой депрессии. Не уверен в своих идеях и желаниях, и не знаю, стоит ли продолжать. То, что я совершил, — зло с обычной точки зрения. Но какие критерии здесь нужны? Мэтр говорит: «Все „дурные“ поступки вызваны чувством самосохранения, или, еще точнее, ожиданием удовольствия и стремлением избежать наказания, боли; и такие мотивы не могут считаться злом».
Или он же об одиноком существе, что скрывает свои мысли и живет в норе своего воображения: «Время от времени он мстит за то, что вынужден скрывать свои чувства, за свою вынужденную изоляцию. И выходит из своей норы, ужасный с виду, и слова его и дела вдруг взорвутся во всю мочь и, возможно, погубят его самого. Так же живу и я…»
Я — этот одинокий скрытный человек, я — Фридрих Ницше. А вы там, снаружи, вы все остальные, не скрываетесь ли и вы в своих норах?
В двенадцатом часу кто-то позвонил в дверь. Нора взглянула на мужа.
— Это он.
Бригадный генерал решал кроссворд в «Таймс». В ответ на ее слова вяло взмахнул рукой, словно это могло выключить звонок.
— Наверняка хочет устроить скандал. Ты должен от него как-нибудь избавиться.
— Не знаю…
— Чарлз, но неужели должна идти я?
Снова задребезжал звонок.
— Не знаю, что мне ему сказать…
— Да просто пошли его прочь.
Под дверью стоял Поль Вэйн.
— Надо же, — с наигранным удивлением произнес генерал. — Это ты, Поль…
Зять насупился.
— Как там погода? — Генерал вышел на крыльцо, взглянул на звезды. — Дивная ночь. Как дела, Поль, дорогой?
— Элис у вас?
Генерал только тут заметил, что Поль нетрезв. Внешне это не бросалось в глаза — чуть растрепанные волосы, нечищенная обувь, странный взгляд, — но человек, который перевидал столько пьяных, как генерал, не испытывал ни малейших сомнений.
— Элис, — протянул он, словно речь шла о какой-то странной зверушке. — Ты ищешь Элис…