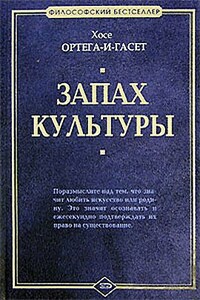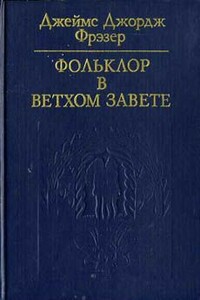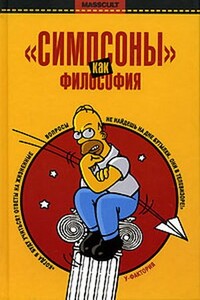Перед лицом избытка жестокости — людей ли, судьбы ли — как не взбунтоваться, как не закричать (твердости нам не хватает): «Так не должно быть!», как не залиться слезами, проклиная то, что так подло играет людьми? Куда труднее себе сказать: эти плачи и проклятья рождены во мне жаждой мирного сна, гневным неприятием всего, что не дает мне покоя. Но всякого рода переизбыток — не что иное, как прорвавшийся вдруг знак суверенности мира. К таким знакам и прибегал автор «Упражнений», пытаясь посеять «беспокойство» среди своих учеников. Что ни ему, ни его ученикам не мешало осыпать мир проклятиями; я же могу лишь любить его безнадежной, всеобъемлющей — вплоть до последнего отребья — любовью.
* * *
Вспоминаю один случай, о котором писали в газетах лет пятнадцать тому назад (привожу по памяти, от себя не добавив ни слова). Дело было в каком-то французском городке или деревушке; в конце недели бедняк приносит домой заработанные деньги; увидев забавные бумажки, его маленький сын хочет поиграть и как-то бросает их в огонь; отец, слишком поздно все заметивший, в ярости хватается за топор и, совершенно потеряв голову, отрубает сыну обе руки. В соседней комнате мать купала младшую дочь. Выйдя на шум, она упала замертво, малышка тем временем захлебнулась водой. Отец, совершенно обезумев, убежал из дома и стал бродить по окрестностям.
Как бы то ни было, нечто сходное должно бы слышаться в строчках, написанных мною три года назад: «Я намечаю перед собой точку и воображаю себе, будто она является геометрическим местом всего возможного существования, всякого единства и всякой отделенности, всякой тоски и всякого неутоленного желания, всякой смерти.
Я сливаюсь с этой точкой, меня испепеляет глубокая любовь ко всему, что в ней есть, доводя до того, что я отказываюсь жить ради чего-то другого, нежели эта точка, которая, будучи разом и жизнью и смертью, отливает хрусталем водопада.
В то же время необходимо сорвать покровы со всего, что там есть, обнажить самую что ни на есть чистую сокровенность, чисто внутреннее низвержение в пустоту: точка вбирает в себя все, что в низвержении этом идет от ничто, то есть все «минувшее», привнося в мимолетное и ослепительное свое явление всю открытость любви».
Благодаря почему-то унявшейся тоске я написал тогда и эти строки: «Когда в моих мыслях является преображенное предсмертным экстазом человеческое лицо, то свет смертной неизбежности падает даже на затянутое тучами небо, и его серовато-тусклый блеск становится тогда более пронзительным, чем солнечное сияние. В этой картине открывается, что природа смерти неотличима от природы света: последний светит как раз в той мере, в какой себя не бережет, теряясь в своем очаге; смерть и есть та потеря, благодаря которой сияние жизни пронзает и преображает самое тусклое существование, ибо только свободный порыв смерти и выливается во мне в могущество жизни и времени. И чем же, как не зеркалом смерти, быть мне тогда — точно как и вселенная будет зеркалом света».
Следующие строки из эссе «Дружба» описывают экстаз перед «точкой»: «Я был вынужден отложить перо. По обыкновению сел перед открытым окном; но, не успев сесть, почувствовал, что меня захватывает какое-то экстатическое движение. Меня уже не глодали, как накануне, сомнения в том, что подобное сияние было не менее желанным, чем эротическое сладострастие. Я ничего не видел: этого, как ни старайся, не увидишь, не ощутишь и не постигнешь. Это гложет и гнетет невозможностью умереть. Ежели тоска окутывает в моих мыслях все, что я любил, то связанные с моей любовью мимолетные реальности следовало бы представить чем-то вроде облаков, за которыми скрывается то, что есть. Нет ничего обманчивее образов восхищения. То, что есть, мерится мерилом ужаса, ужас и толкает то, что есть, к обнаружению. Без этого страшного толчка ничего бы не было на сей раз, вспомнив вдруг то, что есть, я не смог сдержать рыданий. Когда я встал, голова моя была опустошена — силою любви, силою восхищения…»
* * *
Мягкие и ослепительные зарницы нетерпения и несогласия вспыхивают в горькой горечи ночи.