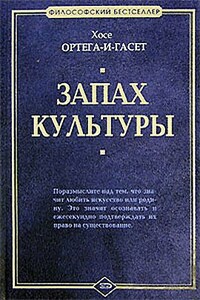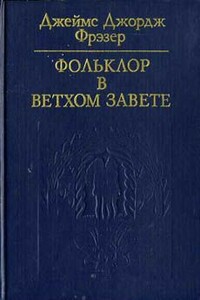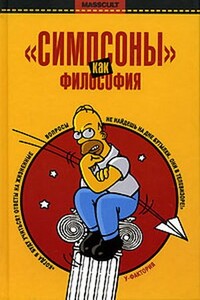Созерцая ночь, я ничего не вижу, ничего не люблю. Пребывая в недвижности, оцепенении, ОНА меня поглощает. Могу вообразить себе какую-нибудь страшную, возвышенную картину — обнаженная извержением вулкана земля, залитые огнем небесные хляби, да мало ли что можно придумать, чтобы вызвать «восхищение» духа; сколь восхитительной и потрясающей ни была бы ночь, она превосходит какие бы то ни было возможности, хотя в ней нет ничего, даже по завершении мрака в НЕЙ нет ничего ощутимого. В НЕЙ все сходит на нет, но когда мой взгляд «выскакивает из орбит», я пронзаю собой пустую глубину, а пустая глубина пронзает меня. В НЕЙ сообщаюсь я с «неизвестностью», которой противостоит самость моего «я»; обретаю неизвестную мне самость; самость и неизвестность переливаются друг в друга, переплетаются в единой, едва ли отличимой от пустоты разорванности — не властной себя от нее отделить хоть чем-то, что я мог бы постичь, — и тем не менее много больше, чем мир, сверкающий тьмою цветов, от нее отличимой.
* * *
Что не бросается в глаза, когда говоришь: что рассуждение, даже ставя под вопрос собственную ценность, предполагает не только того, кто рассуждает, но и того, кто рассуждение слушает… Я не нахожу в моем «я» ничего, что не было бы собственностью мне подобного. Мало того что я не могу уклониться от этого движения моей мысли, которое бежит вне меня, — оно ни на миг не оставляет меня в покое. Итак, когда я говорю, все во мне даруется другим.
Мне это известно, мне этого не забыть, но меня разрывает на части эта выпавшая мне необходимость себя отдавать. Я могу вообразить себя точкой, волной, затерявшейся в других волнах, могу смеяться над собою и над этой комедией «оригинальности», которую продолжаю ломать, но в то же время не могу не признать: я одинок, исполнен горечи.
И наконец: одиночество света, пустыни… Мираж проницаемых существований, где всякое сияние было бы отблеском какого-то другого, словно бы источаемые ядом, пеной кровь и смерть предвещали бы более долгий экстаз.
Но вместо того, чтобы постичь, наконец, это самонеистовствование, бытие замыкает в себе несущий его к жизни поток; страшась всякой бьющей через край дерзновенности, убаюкивает себя надеждой избежать разрушения, остаться во владении вещами. Но все дело в том, что вещи владеют существованием, хотя тому мнится, что оно владеет ими.
О пустыня говорящих «вещей»! Мерзость существования: страх перед бытием превращает человека в лавочника. Рабство, неизбывное вырождение: раб освобождается от господина посредством труда (основной ход рассуждения в «Феноменологии духа» Гегеля), но и продукт труда становится его господином.
Умирает возможность праздника, свободное сообщение существования, Золотой век (возможность одинакового опьянения, смятения, сладострастия).
Спад изобилует: растерянными марионетками, они нахальны, норовят друг друга подтолкнуть, друг друга ненавидят, друг от друга уклоняются. Им мнится, что они любят, но они утопают в ханжеском лицемерии, откуда тоска по бурям и шквалам.
Благодаря своей убогости жизнь, оспаривая и оспаривая все на свете, обречена на неуклонно растущую взыскательность — все дальше и дальше от Золотого века (от отсутствия каких-либо отводов). Но стоит заметить безобразие, разжигающую любовь красоту…
Взыскательная красота богатства, но когда само богатство получает отвод, дерзновенный человек перерастает саморазрушение — ценой безрассудной потери всякого покоя. Только удача, словно молнии струя, — просвет среди груды развалин — не ломает скупой комедии.
И наконец: одиночество — на грани рыданий, удушенных ненавистью к себе. Желание сообщения, которое растет по мере того, как получают отвод все ничтожные, легковесные типы сообщения.
В условиях безумия существование доведено до крайности, до забвения, презрения, загнанности. И тем не менее в этих условиях безумия оно вырывается из лап уединенности, отдает себя невозможным сатурналиям, рвет себя на части, словно рвущий душу безумный смех.
И самое трудное: отказываясь ради крайности от «среднего» человека, мы отказываемся от человека павшего, от человека, отдалившегося от Золотого века, отказываемся от лжи и скупости. Мы отказываемся в то же время от всего, что не есть «пустыня», где и маячит эта крайность, где и бушуют сатурналии одиночек!.. Бытие там — то ли точка, то ли волна, тем не менее, единственная точка, единственная волна: ничто не отличает там одиночку от «другого», но все дело в том, что другого там нет.