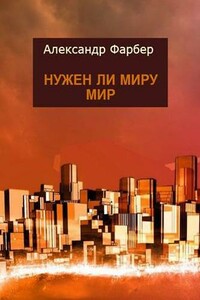— Ну все, твой черед.
Однако она даже не двигается. Как и прежде сонный, Сигмундур злится.
— Вранье — худшее из зол. Не заставляй меня брать свое самому.
Но снова — тишина. Он скалится. Но ровно до тех пор, пока не понимает, что уговоры бесполезны.
Берислава спит. Крепко и успокоенно. По-младенчески.
А китобой, почему-то, не в силах ее разбудить. Заслуженно, с полным правом, всего одним движением… но нет. Рука не поднимется, нельзя.
Сигмундур просто смотрит на Бериславу. Долго, долго смотрит… пока не засыпает сам.
* * *
Она сидит на узком старом пуфике у деревянной стены, поджав под себя правую ногу.
Комната тесная, зато теплая. Утро, пусть и свежее, приносит с собой немного солнца, а оно уже чисто психологически способно согреть. К тому же Берислава тишком утаскивает с постели великана ту самую медвежью шкуру, набросив себе на плечи.
Какой была гибель этого зверя? Девушка подмечает, что не удивилась бы, если бы китобой задушил его собственными руками — размер у него подходящий.
Шкура пахнет им. Все пахнет теперь им, даже она, это уже похоже на назойливый сон.
И мужчина ночью был прав, предупреждая, что запах может потревожить. Он странный. Перемешанный, пряный, горький от соли, сладковатый от пота, насыщенный от йода и сбитый в густой сироп апельсиновым шампунем. Все эти сочетания, конечно, сложно проигнорировать, но Берислава отыскивает истинный аромат мужчины. Не под стать промыслу на китобойном судне, не под стать его не слишком чистому дому, но под стать ему самому.
Сигмундур пахнет зверем. Горячим, жестким и по-настоящему диким.
Ей никогда не приходилось такого чувствовать.
Здесь, в окружении толстых деревянных стен, в чужом доме, девушку окутывает неподдельный интерес. Да, комнаты всего две, да, они обе маленькие, особенно для такого великана, и да, здесь самая настоящая мужская берлога… но по сравнению с ней все папины дома, все дядины квартиры кажутся ей неприметными тенями прошлого. Изыски, изящество, итальянская мебель… та, что здесь, сделана самостоятельно, на скорую руку. Но ее грубая красота цепляет больше. Нас всех больше цепляет то, что настоящее. Поэтому она и убежала. В мире ее детства и грядущей юности настоящего не было ничего.
Кое-как выбравшись из объятий мужчины, утробно прорычавшего что-то тихое и недовольное в ответ на ее первое же движение, Берислава сделала себе чая. Вернее, сначала нашла кухоньку (тумбочку, холодильник и электроплиту), а потом сделала. Вместо привычного ей электрического чайника северный медведь использовал древний, металлический, с тяжелой ручкой. Она с трудом подняла его, а он наверняка мог крутить на одном пальце.
И вот теперь, с этим чаем, состоящим из кипятка и трижды заваренного прежде пакетика, гостья, греясь, сидит. Смотрит. Ждет.
Чего — пока еще сама не знает.
Хозяин спит умиротворенно и раскованно, как ему, медведю, и подобает. Левая рука за головой, струной вытянув мощные мышцы, правая вгрызается в подушку, длинными и большими пальцами терзая наволочку, одеяло наброшено едва ли до груди, как раз на уровне шрама. И чуть ниже, где уже нет шкуры, а покрывало тоньше, виден холмик. Холм.
Берислава смущенно хихикает, уткнувшись носом в кружку с чаем. Но потом замолкает.
Вспоминается вчерашняя картинка из раздевалки…
Девушка краснеет, восстановив по цепочке памяти, что обещала Сигмундуру за возможность спать рядом.
Ей тепло. Нога даже болит меньше, хотя синяк большой. И уж точно не предвидится иных проблем. Берислава так хорошо давно не спала, как с этим незнакомым, пугающим человеком.
Все-таки, возможно, это везение, что она наткнулась на него.
Китобой просыпается в десять тридцать утра, когда солнце уже окончательно занимает свое место на горизонте, а утренний ветерок сменяется приполуденным затишьем.
Задремавшую на своем кресле Бериславу, так и не отпустившую кружку чая, будит глубокий, сопящий вздох. А затем с быстрым, но протяжным выдохом, она находит темный взгляд. Еще сонный, в океанском смоге от брызг, таком же сером. Но вот Сигмундур разминает затекшие мышцы, вот поднимает голову, изучая ее, а вот валится обратно, с силой жмурясь.