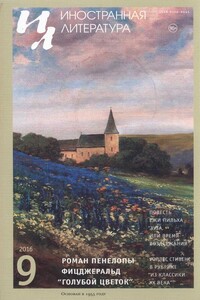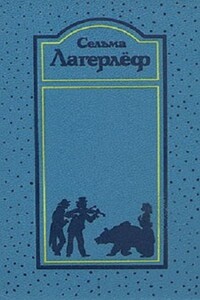– Что с вами, друг мой? – с материнской заботливостью спросила его вдова Гонгора. – Как только вы получили эти письма, я весь вечер не спускала с вас глаз. Должно быть, в них сонное зелье, раз вы оцепенели, как во сне. Вот я и пришла разбудить вас. Проснитесь, друг мой. Конечно, хорошо грезить, когда нельзя жить как хочется, но все-таки жить – это лучше, чем грезить.
Хуан-Тигр уронил голову в ладони вдовы и, рыдая, стал целовать их. Дрожащим от волнения голосом донья Илюминада спросила:
– Что с вами приключилось? Я вас хорошо знаю и поэтому думаю, что скорее всего вы получили добрые вести от Коласа и от радости потеряли рассудок: ведь и от счастья люди плачут, как от горя. Ну как, я угадала?
А Хуан-Тигр все рыдал и рыдал, уткнувшись лицом в холодные ладони вдовы.
– Да вы, как ребенок, и слова вымолвить не можете! Впрочем, я вас всегда ребенком и считала, а уж если я так считаю… Ну-ка, закрывайте ларек, а то уж наступило время летучих мышей и бродячих котов. Идите домой, поешьте, попейте, вы же не бесплотный дух. А когда останетесь один, утешьте себя мыслями о Коласе: так вы потихоньку и успокоитесь. И хорошенько выспитесь: утро вечера мудренее. Ну отпустите же мои руки. Выше голову, друг мой!
Хуан-Тигр покорно, ничего не соображая, повиновался. Он уже уходил, когда вдова, легонько похлопав его по спине, ласково сказала:
– Ну и хлопот же вам от этого Коласа… То ли еще будет! Так что, друг мой, крепитесь!
Вернувшись домой, Хуан-Тигр засветил лампу и, сев к столу, уронил на него голову. Он цеплялся за мысль о Коласе, как кающийся грешник – за плеть, которой сам себя истязает. «Смогу ли я спастись? Остаток моей жизни и та, загробная жизнь, что уготовано мне в ней – ад или чистилище? Однажды моим спасением стал Колас, я нашел в нем забвение. Но теперь мне нужно не забвение, а искупление, только искупление! Ах, Колас ты мой, Колас! Крылья у тебя орлиные, а сердце голубиное… Из-за того что тебя отвергла женщина, ты улетел, как пораненная птица. Не захотел причинять ей боли – и сам улетел туда, где тебя никто не увидит и не пожалеет! Ты, сам того не ведая, вразумил меня: я понимаю, как благородно ты поступил, и страдаю от этого больше, чем от моего запоздалого раскаяния, которое жжет меня. Я должен узнать, кто же я на самом деле. Я, тот тигр, которого ты считал честным и достойным человеком! Я должен покаяться перед тобой! Ты будешь меня презирать, ты будешь меня оскорблять! Ах, если бы ты поднял на меня руку! Я с радостью перенесу этот позор, лишь бы только Бог принял его во искупление моего греха, моего преступления! Я встану перед тобой на колени и буду так стоять до тех пор, пока ты не отпустишь мне мои грехи. И только тогда у меня будет надежда, пусть и слабая, на то, что там, на небе, Бог и Энграсия меня простят…»
Настойчивый стук в дверь вывел Хуана-Тигра из оцепенения. На пороге стоял священник дон Синсерато Гамборена, который обычно больше смеялся, чем говорил, содрогаясь от гулкого, монотонного и громкого, как барабанная дробь, смеха. Гамборена был крошечного роста, почти карлик, и очень худой – кожа да кости. Тонкая и блестящая, словно лакированная, кожа цвета кости так плотно обтягивала его голову, что она казалась просто черепом. Одежда на нем была мирская: ветхий шерстяной пиджак с протертыми локтями, перештопанный и перечиненный самим доном Синсерато; узкие, как чехлы для зонтиков, брюки – такие короткие, что они не прикрывали изношенных штиблет на резиновой подошве, обнажая волосатые лодыжки. А полысевший и побуревший от старости бесформенный цилиндр делал дона Синсерато похожим на чернильный пузырек с пробкой от литровой бутылки. Гамборена сказал Хуану-Тигру, что зашел за ним по пути к донье Марике, где без него, Хуана, скучают. Это известие было изложено доном Синсерато в оригинальнейшей, только ему присущей манере – в форме эллиптических, не связанных между собой сентенций. Дон Синсерато был основателем, директором и попечителем приюта для глухонемых и слепых, существовавшего исключительно на его собственные – скуднейшие – средства. Постоянное общение с подопечными выработало у дона Синсерато привычку изъясняться с предельным лаконизмом. Его высказывания (хотя сам Гамборена и не думал, что они могут показаться остроумными) перемежались то барабанной дробью смеха, то колокольным звоном кашля, такого же гулкого и продолжительного, как смех. Карнавальный смех отличался от заупокойного кашля лишь формой раскрытого рта: при кашле он принимал очертания, свойственные трагической маске, а при смехе – комической.