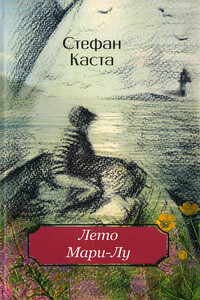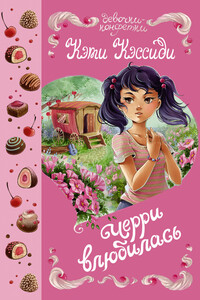— А что такое «срок годности», ты понимаешь?
— Как у йогуртов? — Ей вдруг стало очень смешно.
— Вроде того. Одни с течением времени теряют силу, другие никогда не стареют.
— А мои? — Она чуть не прыснула.
— Посмотрим.
Талья уже потеряла счет времени, а они всё шли и шли по этому полному прекрасных и ужасных слов залу, и вдруг голову пронзила резкая боль и накатила дурнота. Она прислонилась к стене и сжала ладонями виски.
— Мне очень больно, — пробормотала она.
Провожатый повернулся к ней и протянул темные очки.
— Надень, помогает, только видеть теперь ты будешь по-другому.
Талья надела очки, которые казались металлическими, но почти ничего не весили, и вдруг зал стал напоминать старую библиотеку, залитую красновато-золотистым светом, словно купающуюся в лучах закатного солнца. Блестящие грани коробочек обернулись корешками древних книг с золотыми знаками на коричневых, гранатовых и темно-зеленых обложках.
— Так лучше?
Талья кивнула. Она бывала в подобных библиотеках. Когда мама два года назад решила вновь заняться докторской диссертацией, оставленной после рождения Диего, дочь ходила с ней заказывать или получать книги. Приятные воспоминания несколько примирили ее с этим местом, но одновременно вызвали в памяти и другие, печальные, связанные с первыми ссорами между родителями, когда отец начал попрекать маму «ученостью» и пустой тратой времени «непонятно зачем».
— Талья, вот твои слова, — сказал проводник.
Она оторвала взгляд от покрытого воском паркетного пола медового цвета и увидела, что провожатый, опять будто подсвеченный изнутри лампочкой, протягивает ей книжечку вроде тех поэтических сборников, которые изучала мама.
Слова, раньше похожие на блестящих подвижных насекомых, теперь являли собой странные красные символы, относящиеся, по-видимому, к какому-то неизвестному ей языку.
— Они из тех, которые теряют силу? — тихо спросила Талья, боясь услышать ответ.
— Да. Через пять лет твоя мама их забудет, а если и будет вспоминать, то уже без обиды и боли.
Через пять лет! Ей тогда исполнится семнадцать. Как вынести столь долгий срок, зная, что между ней и мамой стоят эти проклятые слова? Даже понимая, что рано или поздно они исчезнут, всё равно пять лет — это целая вечность. Жить, не имея возможности ее обнять, наблюдая, как мама то и дело вспоминает сказанное ею — и рада бы забыть, но не может?
— Нет, это слишком долго. А ничего нельзя сделать, чтобы…
Она не могла подобрать нужный глагол. Чтобы слова «погибли», «стёрлись», «дезактивировались»?..
— Хочешь узнать, как подействовали твои слова?
Вопрос был задан уже привычным для нее бесстрастным тоном, но почему-то создалось впечатление, что именно этот вопрос очень важен и от ее ответа зависит, чем вообще закончится это путешествие.
— Да, — сказала она.
Мигель Кастро сидел в вестибюле Провинциальной больницы и, закрыв руками лицо, плакал. Талью он еще не видел, и, хотя врач пытался убедить его, что выводы пока делать рано, сказанные им слова были малоутешительны, если не безнадежны.
«Сеньор Кастро, девочка впала в кому в результате сильного удара по черепу. В целом ее состояние стабильное, но мы не знаем, придет ли… — тут врач осекся и быстро поправился, — когда она проснется. Часто это происходит уже через несколько часов, однако иногда… требуются дни, даже недели. Пока ничего не известно, но она молодая, сильная, поэтому отчаиваться не нужно».
Судя по тому, что он слышал в больничных коридорах, авария была страшная: больше пятнадцати человек получили ранения, двое — водитель самосвала и водитель трамвая — скончались на месте. Двое находились в коме: Талья и какой-то парень возраста Диего, родителей которого еще не удалось отыскать.
Одна из медсестер тронула его за плечо и спросила с улыбкой:
— Не хотите кофе?
Она была немолода, но улыбка очень ее красила.
— Могу я увидеть Талью?
— Пока нет. Она уже в полном порядке и прекрасно выглядит, но ей проводят кое-какие исследования. Я скажу, когда вы сможете пройти.
— Как меня нашли?
Он спросил просто так, чтобы хоть с кем-то поговорить и не сидеть опять в вестибюле в полном одиночестве.