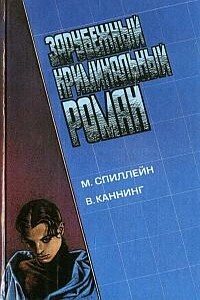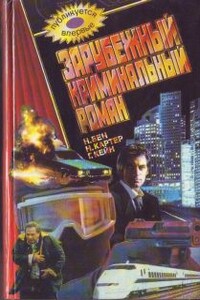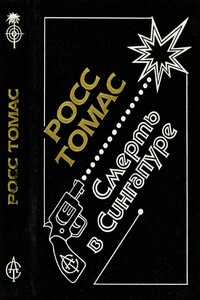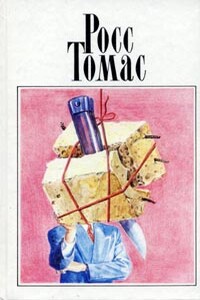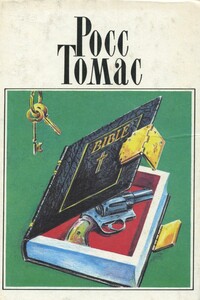— Похоже, она могла себе такое позволить.
— Что вы имеете в виду?
— Хочу сказать, что у нее была богатая мамочка.
— И папочка, — добавил Синкфилд. — Он тоже не страдал от нехватки денег. Я бы не стал возражать, если б моя жена подарила мне миллион долларов. Не стал бы, будьте уверены. Вы не женаты, так?
— Уже нет.
— Считайте, что вам повезло, — он помолчал, вероятно, подумал о своей семейной жизни. — Догадайтесь, что подарила мать Каролин Эймс на двадцать первый день рождения?
— Миллион долларов.
Синкфилд, надо отметить, удивился.
— Вы, значит, кой-чего наковыряли?
— Конечно, я же собираю материал.
— Миллион положен на ее счет в банке. И до тридцати лет она может снимать только проценты. Как вы думаете, сколько набежит за год?
— Точно не знаю. Не меньше шестидесяти тысяч. Возможно, даже семьдесят пять.
— Тяжелая жизнь, не так ли? Шестьдесят тысяч долларов в год. Одному-то человеку.
— Я бы не отказался проверить, возможно ли это.
Синкфилд нахмурился.
— Старина Сайз, должно быть, неплохо вам платит. Зарабатывает он прилично.
— Мое жалование и близко не лежит с шестьюдесятью тысячами.
— Вы получаете половину?
— Меньше половины.
Синкфилд перестал хмуриться. От моих слов настроение у него улучшилось. Похоже, он даже решил, что может проявить великодушие, поскольку мои доходы не шибко отличались от его.
— В ее квартире мы нашли кое-что интересное.
— Что именно?
— Завещание. Не так-то часто двадцатидвухлетние пишут завещания. В двадцать два года думаешь, что будешь жить вечно, и еще пару недель.
— А много среди ваших знакомых двадцатилетних, у которых на счету лежит миллион долларов?
— Не много, — признал он. — Скорее, ни одного.
— Когда она его написала? — спросил я.
Синкфилд кивнул.
— В этом, возможно, что-то есть. Три недели тому назад.
— Кому она оставила деньги?
— Экс-сенатору. Своему отцу.
— Значит, один подозреваемый у нас есть.
— А не пора ли вам домой, — огрызнулся Синкфилд.
Разгоревшуюся ссору я бы оценил шестью баллами по шкале Лукаса для измерения силы семейного конфликта. Может, даже и семью.
Началось все вечером, когда, вернувшись домой, я допустил ошибку, рассказав Саре об интересном происшествии на Коннектикут-авеню, участником которого я чуть было не стал.
Она поначалу встревожилась, так встревожилась, что настояла на том, чтобы мы немедленно поднялись в спальню, где бы она могла утешить меня известным ей способом. Я не устоял, и мы сорок пять минут утешали и успокаивали друг друга в постели.
А вот потом вспыхнула ссора. Она набирала силу с каждым выпитым «мартини» и произнесенным Уолтером Кронкайтом словом, достигла пика за обедом (отбивные, овощной салат, тушеная морковь), а к вечеру тлела угольками отдельных реплик. К завтраку (сваренные вкрутую яйца, недожаренная ветчина, пересушенный гренок) мы оборвали все каналы общения, за исключением шуршания газеты да шарахания чашки об стол.
— Хорошо, — первым пошел на попятную я. — Я сожалею о том, что меня едва не убили. Приношу свои извинения.
Мартин Рутефорд Хилл, заметив, что мы вспомнили о существовании языка, включился в разговор.
— Хара соун плок, — возможно, он сказал «плог».
— Ты мог бы хотя бы позвонить и сказать, что с тобой все в порядке.
На мгновение я попытался воспринять ее лотку.
— Извини. В следующий раз я всенепременно позвоню.
— Что значит, в следующий раз? За этим, выходит, ты поступил к Сайзу? Соглашаясь на эту работу, ты говорил, что она позволит тебе чаще бывать дома. За прошедшие три недели ты оставался дома два дня. А остальное время провел или в Джорджии, или в Пентагоне с этим безумным майором.
Безумного майора звали Карл Соммерс. Военный историк, он писал докторскую диссертацию, в которой сравнивал операции джи-ай на черном рынке Европы в последний период Второй мировой войны с аналогичными операциями, имевшими место в разгаре войны во Вьетнаме. Выводы у него получались очень любопытные. По завершению исследований он намеревался написать по материалам диссертации книгу, уйти в отставку и составить мне компанию на историческом факультете того самого колледжа, где остановилось время. Сара полагала майора безумным, потому что каждый день он ходил на работу и обратно пешком (десять миль в один конец), не ел ничего, кроме постного мяса и прессованного творога, а по субботам надевал рыжий парик и бродил по Джорджтауну в поисках малолеток. Свои мужские достоинства майор Соммерс мог проявить только с четырнадцати- или пятнадцатилетними девчушками. Он говорил, что его это тревожит, но не настолько, чтобы обращаться к помощи специалистов. Совсем недавно майору стукнуло тридцать шесть.