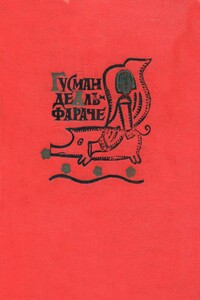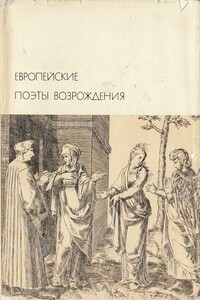К концу романа Гусман-плут исправляется и становится нравственным автором мемуаров. Должны ли мы ему верить? Он уже не раз пытался исправиться. Быть может, это очередная и, пожалуй, самая тонкая плутня — на сей раз с читателем? Или к богатому комплекту пороков прибавилось на старости лет еще иезуитское ханжество? Мы помним, как незадолго до ареста Гусман умудрился заставить и духовника, и всю Севилью поверить в его святость. Читателю нелегко представить себе добродетельную старость матерого плута, который предательством добыл себе свободу. Пошлый передний план — его конец — также уходит в перспективу. Как он переходит во второй план, мы не видим. Это происходит в таинственных недрах души, куда не проникает никакой свет анализа. Как параллельные линии, которые встречаются лишь в бесконечности, оба Гусмана как-то живут всю жизнь рядом, в каждой главе, но лишь под конец благочестивый Гусман, с помощью благодати, задушил чувственного Гусмана — надо верить в благодать! Действие завершается в неопределенной дали (плутовской роман часто остается незаконченным). Лица выступают из мглы; плут Гусман исчезает во мраке времен, там преображается, и оттуда уже звучит голос разумного Гусмана. Психология образа — неясная в контурах, мнимоглубинная, незавершенная, как в «открытой» композиции барочной живописи.
Разладу в человеческой натуре соответствует и внешнее положение — одиночество в «естественном обществе», где царит война всех против всех, по выражению философа XVII века Гоббса. Уже с первых строк посвящения читатель ввергнут в атмосферу недоброжелательства, коварства, низости, козней, от коих нет спасения, в атмосферу томления и страха перед «душегубами», «василисками». За этим идет патетически язвительное обращение «К черни», преследующей автора и в столице, и в деревне, и в уединении… Насколько тон Алемана отличается от тона Сервантеса в предисловии к «Дон-Кихоту», проникнутом спокойным достоинством и дружеским юмором![7]
Похождения Гусмана начинаются с того, как мальчиком он в сумерках покидает родной дом в Севилье и, обливаясь слезами, не видя ни неба, ни земли, бредет по дороге, голодный и одинокий, в «совершенно чужом мире», где, как ему начинает казаться, он скоро «перестанет понимать язык окружающих» (I—I, 6). Эти похождения завершаются сценой отправления на галеры; Гусман, уже пожилой человек, медленно шагает в наручниках по улицам Севильи, — даже родная мать не вышла его проводить, не пожелала его видеть. «Был я совсем один, один среди всех» (II—III, 8); Но предела «одиночества среди людей» он достигает на галере, когда, всеми покинутый и гонимый, на этот раз безо всякой вины, он подвергается чудовищным мукам и унижениям. «Пасть ниже было некуда». Лишь теперь происходит вознесение непутевого «сына человеческого» (евангельские ассоциации в этом заключительном эпизоде спасения вполне ощутимы). Отверженный пикаро, существо без семьи, без друзей, без постоянного занятия, бродяга, выбитый из жизненной колеи, выброшенный, из человеческого общества, некий робинзон среди людей — наиболее благодарный материал для Алемана с его концепцией полного одиночества человека в мире.
Литературе Возрождения, ее новелле, поэме и драме, в общем, еще чужда тема человеческого одиночества. Для цельных, общительных натур ее героев, если почему-либо они и уходят от людей, нет радости без людей, нет жизни вне общества (вспомним обрамляющую новеллу «Декамерона» или некоторые комедии Шекспира). Даже бродяга Панург у Рабле — образ социально столь близкий пикаро, но на другой национальной почве и с иным освещением — при всех пороках остается «добрым пантагрюэльцем» и непременным членом пантагрюэльской компании. Поэтизация ухода от людей в пасторальных жанрах литературы Ренессанса еще непоследовательна, а порой довольно искусственна. Тема глубокого разлада героя с миром и нарастающего осознания своего одиночества (относительного даже в «Гамлете» и «Дон-Кихоте») возникает в литературе Возрождения лишь на исходе — в ней выражается кризис гуманистической мысли. Но с нее начинается мироощущение барокко, и она проходит через все его искусство.