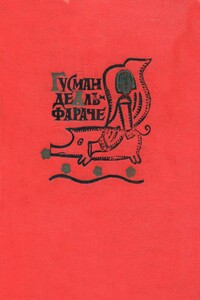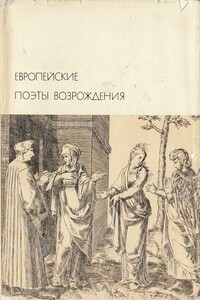Эстетика «враждующих половин» и «разлада как истинной натуры» приводит в построении романа к причудливым, казалось бы, несовместимым контрастам, к резким, как в барочной живописи, светотеням. На фоне биографии мошенника, ее земной, «презренной прозы», голосом из других миров звучит тон вставных героических новелл, так же как в эпизодах религиозной экзальтации героя божественный голос совести в душе кающегося плута. Таков же контраст чувственных вожделений Гусмана (комическая низменная действительность) и идеальных чувств героев новелл (высокий поэтический вымысел).
Мироощущение Алемана уже исходит не из внутренней родственности элементов, а из их враждебности, не из жизнерадостного «совпадения противоположностей» — coincidentia oppositorum, основополагающее положение натурфилософии Возрождения от Николая Кузанского до Джордано Бруно, — а скорее из мрачного «совмещения противоположностей», из антагонистической борьбы двух враждебных начал во всем живом. Эти два начала — тело и душа, страсти и разум, природные влечения и нравственные веления, народная жизнь и законы — сосуществуют, но не переходят друг в друга. Каждое из них стремится подчинить и подавить другое, — насилие лежит в основе не только стихий, но и самого «разума». «Разум, подобно придирчивому учителю, стремится выколотить из нас пороки и ходит за нами с розгой. А мы убегаем из школы, убоявшись порки, к добрым тетушкам и бабушкам, где нас угощают сластями. Но разум по большей части побеждается вожделением, сродным нашей природе, как дыхание и сама жизнь, хотя разум обладает старшинством». И «на этом кончается битва между разумом и страстями» (II—III, 5). Наивное рассуждение плута прекрасно передает понимание «разума» в XVII веке, по форме возрождающее старый средневековый дуализм плоти и духа, но по сути подсказанное новым антогонизмом исторического развития и переживаемым национальным кризисом культуры. Этот сухой «разум» — насильственный, враждебный естественным стремлениям народа — свойствен и иезуитскому «рационализму» в духовной жизни, и глубоко дисгармоничному «иезуитскому стилю в искусстве» (как раньше иногда называли барокко). Этот «разум розги» недурно обосновывал деспотическую политику абсолютизма, он и ее хроническим неудачам в битве с «неразумной» жизнью придавал отпечаток возвышенного.
Ярким примером парадоксального совмещения противоположностей является образ Гусмана, непостижимый вне барочной эстетики внутреннего разлада. Специфична здесь не насыщенность назиданиями, обычная для старой сатиры, а то, что назидания исходят от пикаро. Жизнь свою Гусман описывает, уже находясь на галерах, но рассказ ведет с детства, в строго хронологическом порядке, сопровождая события своими рассуждениями раскаявшегося старца. Таким образом, возникают два облика Гусмана: юного и старого, действующего и оценивающего, неопытного и умудренного годами, плута и сатирика. Один — воплощение страстей, жизни, личного начала; другой — рассудка, морали, общественного начала. Уже сама мемуарная форма построена в «Гусмане» на антиномии, на барочной противоположности «изменчивого героя» и «незыблемой цели». Это «перспективы и светотени», которыми автор, одновременно «историк» и «живописец», «сумел прикрыть назидания и советы, столь необходимые для дел государственных и улучшения нравов», как объясняет нам друг Алемана в похвальном слове к первой части.
Итак, перед нами два плана картины: 1) передний — повествовательный, пошлый; 2) глубинный — дидактический, возвышенный. Первый уже в прошлом, но это, несомненно, реальный Гусман; второй — в настоящем, но тут мы лишь слышим голос идеального Гусмана. Предполагается, что эти два плана, хотя и совмещенные, строго разделены, ибо раньше Гусман был только плутом. Но как понимать размышления нравственного Гусмана? Это его нынешние размышления? А разве молодой Гусман никогда не размышлял, не возмущался жизнью, по-своему не обличал порок? Если верить герою, то и пострадал он за то, что говорил правду (II—II, 7). Дидактика романа — а она в каждой главе дается рядом с плутнями — это, очевидно, мысли молодого Гусмана, о которых вспоминает старик; предмет первого плана, преломленный через второй. Но как? Мы не знаем. Мы не видим, как из плута рождается сатирик. Второй, возвышенный план — его начало — теряется в глубине перспективы.