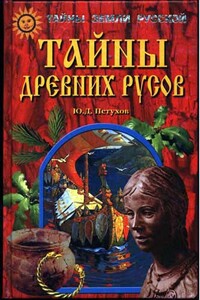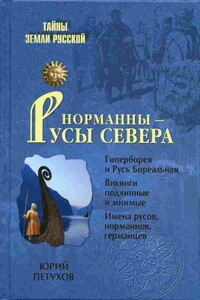— В твоих руках я, доченька, в твоих, — проговорил он еле слышно. — Скоро увидимся!
Спускался вниз шаг по шагу. Ноги не держали. Предательство внезапнообретенного сына… нет, всех сыновей, дочерей, бежавших от него, замышляющих против него недоброе. Смерть любимой дочери, страшная смерть, не слишком ли много для одного человека — человека, несущего тяжкий, неподъемный груз в гору, созидающего Державу, в которой всем будет дано по делам их и по чести? Или правы были волхвы, боги отворачиваются от него?! Нет! Его воля сильнее воли богов!
Уже на последних, нижних бревнах-ступенях Великий князь Русии и подвластного ей мира. Крон, сын Крона и внук Крона, Кронид в поколениях гордо вскинул вверх седовласую главу и, оттолкнув поспешившего на помощь гридня, твердой, каменной походкой прошествовал к своему невысокому и простому на вид походному трону, вырезанному из черного дерева. Опустился. Вперился невидящим взглядом в вершину крады. И бросил сухо:
— Возжигайте!
Восемь волхвиц придонайских восемью факелами, заполненньми благоуханными светлыми смолами, с восьми сторон — по углам и срединам бревен — вознося мольбы Пресвятой Богородице Матери Ладе, будто отражая на земле, в мире Яви Божественный Свет ее восьмиконечной Звезды, зажгли краду.
Куп сидел и смотрел на бушующий огонь, не отводя глаз, не мигая. Двенадцать умудренных годами воевод сидели по правую и левую руку от него. Жар бил в их лица, пламя бросало на них гнетущие, трепещущие отсветы, словно сами они пылали в этом взвивающемся к небесам пламени. Жарко. Нестерпимо жарко! Прочие вой далеко за спинами, они не ощущают этого жара. А им надо терпеть. Этот жар — напоминание о краткости жизни. Этот жар — грань иного мира, мира Нави, который ждет их всех, ждет каждую минуту, каждый миг. Жарко!
И только Куп сидел словно закованный в ледяной панцирь. Холод в груди, холод на спине, холод в висках, как там, посреди Доная. Куп был отрешен, он ни о чем не думал, он ничего не видел. Он просто сидел застывшим изваянием. Прерванный полет стрелы. Остановка в пути. И холод… который пройдет. Куп ждал. Крада скоро догорит. Угли зальют светлым вином. И пепел плоти той, что ушла в небесные выси, в луга Велеса, соберут в расписную лицевую урну. И в другие сосуды, малые и большие, соберут пепел любимой кобылы, сожженной вместе с Великой княжной, шести волов, восьми белых коров, собак… и пепел двух старых служанок, что решили уйти в вырий вместе с хозяйкой. Все сложат в середине кострища, принесут утварь, одежды, украшения, еду, питье — Рея ни в чем не должна знать недостатка в ином мире — и медленно, без торопливости и спешки, начнут насыпать холм — до самой вершины, а потом вонзят в него меч Яра. И тогда начнется тризна — долгий, шумный, веселый пир на неделю, и все будут радоваться, ибо
Великая княгиня не исчезла, не пропала в небытии, а лишь перешла в лучший мир, и стало быть, надо радоваться за нее. И начнутся состязания воинов, и начнутся поединки — до первой крови или до смерти, как пожелают сами поединщики. И вот тоща придет его черед! И вот тогда…
— Куп! — вырвал северного князя из забытья грубый голос. — Что с тобой?!
Двинский воевода, мохнобровый и морщинистый, тряс его за плечо, будто ото сна будил.
— Третьи сутки не встаешь! С открытыми глазами спишь!
Куп тряхнул головой, сбросил тяжелую руку. Огляделся. Никакого пламени уже не было, да и кострища тоже. Огромный пологий холм высился перед ним. Вокруг холма сидели, лежали, стояли тысячи людей с кубками в руках, с рогами, наполненными медом и винами, с кусками мяса. Они ели, пили, веселились… и глазели на шумное и быстрое зрелище. У подножия погребального холма и на склонах в запутанном и странном хороводе-мельтешении носились десятки, сотни всадников. Они рубились, били друг друга копьями, метали в лица и груди дротики… Но не кричали истошно от ран, не стонали, не захлебывались в крови, не падали наземь безголовыми. На копьях не было рожнов, дротики были дубовыми, а мечами рубили плашмя, голоменью. Вой тешились, состязались в ловкости и умении. И все сидящие, стоящие вокруг насыпи поддерживали их шумными криками.