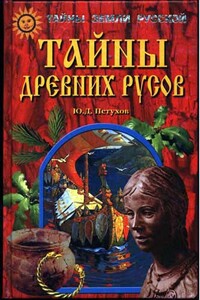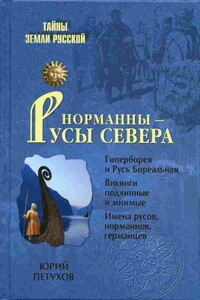— Ешь, — старческая рука протянула гроздь винограда, черного, мелкого. На расписном глиняном блюде, стоявшем на столе подле скамьи, таких гроздей было много. Лежали яблоки, сливы, сушеные сладости. Стояли кувшины с вином кислым и сладким, с водой. — Ешь, детка!
Горло сразу свело судорогой, до боли захотелось взять виноград, впиться в него зубами, утолить обуревающую тело жажду, усмирить голод. Никогда в жизни Яра еще не хотела так есть. В нетемной темнице она изнывала от избытка пищи, выбрасывала лишнее за дверь или в оконце, несмотря на ворчливую ругань бабки. Здесь она умирала от голода.
— Нет!
Тонкая, но сильная рука выбила гроздь — та упала на дощатый пол, вздрогнула как живой зверек, замерла.
— Нет!
Старик улыбнулся, разгладил усы.
— Мне нравится твоя строптивость, — совсем тихо произнес он, — я люблю укрощать непокорных… и они меня больше любят… потом. Подведи ее ближе! — Приказал он стражу.
Тот железными пальцами впился в плечо княжны, сдавил его до хруста. Подвел к старейшине вплотную.
Высохшая желтая рука в коричневых старческих пятнах заскользила по волосам, щекам, шее, замерла на тонкой шитой парче, скрывающей под собой грудь. Страж не заметил быстрого движения — будто птица крылом махнула, и рука отдернулась, вся в кровавых полосах царапин. Темная густая кровь еле сочилась, лишь две или три капельки сорвались вниз, на доски выскобленного чистого пола.
— У тебя острые коготки, — прошептал Гулев. — И все же ты не муж, и не воин, ты дева… и должна будешь покориться, не мне, девочка, но своей женской природе, я лишь окажусь в нужный час рядом, пусть не сегодня, пусть в другой день, когда ты будешь ласковей. И помни, естество твое сильнее тебя!
— Я княжна, — выкрикнула Яра, удерживаемая теперь за оба хрупких плеча, — а не блудливая девка! И у меня есть муж! Великий князь!
— Великий? — переспросил старейшина. — И как же его имя?
— Жив!
Гулев задумался, потер виски ладонью.
— Не слыхал про такого…
— Еще услышишь!
Гулев встал. И наотмашь ударил пленницу по щеке.
— Не смей мне угрожать.
Яра захрипела в бессильной ярости. Никогда прежде' ее не касалась рука смертного так, позорно и тяжко, отбрасывая ее вниз, в гущу безликих и презренных бродяжек, девок, которых можно безнаказанно бить, изгоек, проклятых самим Родом.
Четыре дня минуло с того часа, как укрылись они от стылого ветра в сырой и темной пещере. Но это лишь поначалу пещера показалась сырой и темной. Только привыкли глаза, высохла кожа на лицах и руках, почувствовали они, что откуда-то из глубин ее несет теплом и сухостью. Зажгли факел. И пошли. Талан с сотником Хисом впереди. Яра со Стимиром сзади. Ход в пещере был ровным, не покатым. Они просто углублялись в ее нутро, не опускаясь вниз. И уже через час-другой стали замечать кладку из кирпича-сырца по стенам, кто-то крепил ходы, а значит, и здесь жили люди. Это и было самым страшным. Какие люди?! Но останавливаться не было смысла. На берегу серого холодного моря смерть. Впереди — неведомое. Они избрали путь вперед. И, переночевав в пещере, к утру выбрались из нее в место сухое, теплое, за невысокой, но плотной грядой. Выбрались прямо на поляну. А чуть дальше, на полет стрелы, зеленел первой зеленью редкий лесок. Обошли поляну, вошли в лесок, плутали с непривычки — откуда у узников привычка, только Хис немного разбирался, что к чему, бродили, изнывали от жажды — ни ручьев, ни озерца, ни ягод. Голод мучил. А Яра, где б ни была, куда б ни шла, везде одно видела — как вздымает ее любимый над головами, над палубой, над волнами, надо всем миром поднебесным, одно слышала, как говорит: «Смотрите! Смотрите все! Вот любовь моя, лада и жена!» Тем и жила, не замечая ни жажды, ни голода. Лада и жена! Любовь! Где он теперь, живой ли, мертвый… Нет, и думать нечего, живой, только живой! и она его непременно разыщет! или он ее! какая разница! Потом зашли в избушку крохотную посреди леса, кособокую и ветхую. Там были припасы: орехи, грибы сушеные, ягоды. Вода в жбане стояла. Только напиться успели, и то не вдосталь. Там их и скрутили. Будто из-под земли выросли ловкие вой, говорящие, вроде бы, подобно русам, на понятном языке, но слов понимать нежелающие. Скрутили, глаза завязали, повели куда-то. Потом в погребе полутемном все выпытывали — откуда, мол, зачем пожаловали. Правде не верили… а лгать было нечего, да и непривычна Яра была ко лжи. Братьев и сотника били. Но беззлобно, скорей, для порядку, чтобы не дергались, не ерепенились. Потом на другую поляну привели — огромную, с черным кострищем и огромным деревянным богом посредине. Длинные хижины, то ли три, то ли четыре, не разберешь, стояли по краям поляны, на взгляд будто переходили одна в другую. Там было много народу: и мужей, и жен, и детей. На гостей незванных глядели недоверчиво, но без ненависти. Впервые Яра видела столько много карих глаз, устремленных на нее, дивилась— волосы светлые, а глаза словно мед спелый, янтарно-ржаной. Да и одежи были грубые, толстыми швами наружу, где холстина дерюжная, где кусок шкуры почти невыделанной. Но на диких горяков не походили, те вообще кроме шкур ничего не знали. Свои, русы, только странные, будто и не свои. Мечи у стражей были медные. У старшего — бронзовый. Щиты из кож бычьих. У одного воя на поясе Яра нож диковинный увидала — каменный, черный, острый по лезвию-сколу, от такого мороз по коже.