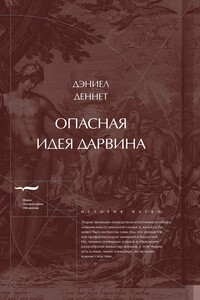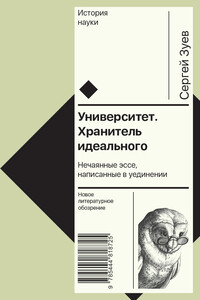Грезы президента. Из личных дневников академика С. И. Вавилова - страница 257
Выражая недовольство несовершенством науки биологии, Вавилов критикует «мистический гипноз естественного отбора» (13 апреля 1941). «Опять думы об эволюции. Наличие сознания, творческого сознания – необходимое условие эволюции. Вернее, в результате эволюции сознание, по-видимому, возникает, ускоряет эволюцию и дает ей смысл. Таким образом, понятие об эволюции как природном явлении неразрывно связано с сознанием, а следовательно, с личностью» (20 июля 1939). «…сознание, переводящее естественный отбор в искусственный? Именно этот переход естественности в искусственность, бессознательного в сознательное и есть проблема» (1 августа 1939). Искусственный отбор, приходящий с появлением сознания на смену естественному, становится ускорителем эволюции. «Неустанно, но и неразрешенно цепляется мысль о взаимоотношении естественных, эволюционных результатов развития живого, вроде, например, глаза с хрусталиком и сетчаткой и искусственных, изобретенных сознанием – фотографической камеры и других приборов» (3 октября 1948). «Наука, изобретения и прочие „достижения“ человеческие – быстрое повторение эволюционных процессов, которые привели к глазам с линзой, крыльям, ногам. Ускорение за счет сознания. Это несомненно, что сознание ускоритель» (22 ноября 1949).
Оптимистичное признание особой роли сознания в общем мировом прогрессе не облегчало разгадки «загадки сознания» в целом, даже усугубляя некоторые из проблем («гипертрофия сознания»). «В лучшем случае статистическая эволюция с индивидуальными глубочайшими отрицательными флуктуациями не утешительна. Есть люди активные слепые (в большинстве случаев) деятели этой эволюции и пассивные созерцатели (это зрячие). Тем и другим нехорошо» (20 сентября 1942).
Сомнения в самом факте эволюции тоже иногда допускались: «Физика знает, как многое можно разрушить. Развалить звезды, кристаллы, разложить молекулы на атомы, атомы на электроны, протоны etc. Сами эти электроны и протоны, по-видимому, можно превратить в фотоны. Где же субстанция, кроме растяжимого, размытого, бесформенного; материя, энергия? Ни одна форма не постоянна, не вечна и есть ли эволюция?» (19 января 1942). Высказывалась мысль, что кажущийся прогресс может быть просто разновидностью флуктуации: «Иной раз все события кажутся происшествием в растоптанном муравейнике с точки зрения человека или еще более далекой и высокой. Обыкновенное „броуновское движение“, флуктуации. На самом деле едва ли так, вернее, и так и не так, потому что на эти флуктуации накладывается большой процесс, начавшийся в 1917 г. Тоже флуктуация, но много бóльшего периода» (29 июля 1942).
Сомнение в существовании общемирового «вектора» развития приводило иногда даже к мыслям о «закольцовке» истории – как минимум своей личной. «Соберется когда-нибудь вещество в похожую конъюнктуру и заживет так же и тем же самым. Только будет не „я“, а кто-то другой» (31 декабря 1943). «По-видимому, сочетание материи когда-то где-то снова приведет ко „мне“» (25 сентября 1945). «…что же сказать о сохранении „сочетаний“. Разве только, что они в бесконечной вселенной в бесконечное время должны повторяться и возвращаться» (8 февраля 1948). «…так просто, уверенно и спокойно можно уйти в небытие, когда где-то с большой вероятностью подобное же сочетание атомов повторится» (25 апреля 1948).
4.5. Программные панпсихистские записи (1941) и истоки вавиловского панпсихизма
18 февраля 1941
Не нахожу места. Мысль и то, что около мысли (все эти догадки, «интуиции», инстинкты и пр.), рвется за человеческие пределы, за биологию, за самого себя. Траги-комическая история о бароне Мюнхгаузене, пытающемся вытащить себя самого за косу из болота? Или что-нибудь иное.