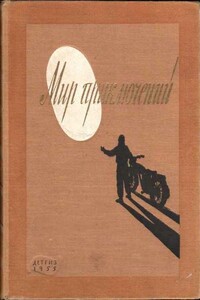— Помните это место, сударь? — говорили они.
И выяснялось, что он — не помнит. Здесь даже тени не было слегка наигранной приподнятости ассоциаторов с их «гражданин» и «товарищ» — была подавленность солдат, знающих, что такое воевать против лучшей в мире армии и непрерывно терпеть пораженья.
— Да, сударь, это вы в самую точку попали, — и они снова приводили цитату.
— Теперь насчет того, что у вас сказано про делегатов Конгресса — не мне, конечно, спорить, господин Пейн, но я бы, может, предложил тут одну штуку. По-вашему, Конгресс мог бы выбрать президента…
Они были напористы, сообразительны, азартны, но чужды тонкостям воспитанья. Им ничего не стоило в задумчивости поковырять в носу, жевать табак и сплевывать куда попало, они не отличались чистоплотностью. Они внушали отвращение виргинцам и мэрилендцам, с которыми постоянно вздорили, доходя до рукоприкладства, и не слишком ладили с пенсильванскими голландцами.
Пейн расстался с Моррисоновым ружьем. Он мог вполне обойтись своим старым мушкетом, тем более что сильно сомневался в своей способности попасть в цель, даже если бы зарядил оружие картечью. И отдал длинноствольное ружье солдату-виргинцу, которому оно действительно могло пригодиться.
Когда Грин услышал от Пейна в подробностях, что произошло с ассоциаторами, он покивал головой и произнес без гнева:
— Это, конечно, не первый случай. В других местах случалось то же, и не однажды. Случалось, вероятно, и у нас.
— Причем они не трусы, — сказал Пейн.
— Люди вообще не трусы. Они взвешивают: то ли лучше остаться и воевать, то ли лучше сбежать.
— Им не хватило целеустремленья, — сказал Пейн. — Их отштамповал такими определенный порядок вещей за Бог знает сколько столетий — так как же их перештампуешь одним махом? К тому же и командованье фактически отсутствовало. Раш мне еще в Филадельфии подчеркивал, что революция — это ремесло. А что мы знаем об этом ремесле?
— Ничего…
— И все-таки я не могу примириться с мыслью, что это гиблое дело. Гиблое, как вы думаете?
Грин отвечал, что нет, но без особой убежденности.
— Да нет, не гиблое, разумеется. — Пейн покрутил головой и крепко потер себе лоб мясистыми пальцами. — Революция есть нечто новое — настолько новое, что мы и сами не отдаем себе отчета. Мне иногда приходит в голову, что мир с апреля прошлого года вступил в новую эру.
Он спросил у Грина, сколько это займет времени, сколько лет, и Грин сказал, кто знает — может быть, двадцать, а возможно, и сто. Они улыбнулись друг другу; Грин, сощуря голубые глаза, обнажил крупные крепкие зубы, оценив, что за роль выпало каждому их них играть в этой своеобразной комической опере. У Пейна полегчало на душе, когда другой высказал то же, что думал он сам.
Грин говорил, как он рад тому, что Пейн здесь.
— Это мало что значит, — возразил Пейн.
— Нет. Я стараюсь научиться, как успешно провести кампанию, но много ли проку, если люди не будут знать, за что воюют?
— А вы думаете, я могу объяснить?
— Да, думаю, — кивнул Грин.
— Хорошо.
— Офицерское звание не хотите иметь? Это, знаете ли, несложно. Капитана — совсем просто, но можно и полковника или майора, если угодно, — у нас их, слава тебе Господи, столько…
— Не надо, нет.
— Все же внушает уважение, — заметил Грин неуверенно.
— Если я не заслуживаю их уваженья как Том Пейн, то никакое звание не поможет.
— Так-то так…
— Вы понимаете, единственное, что я могу им дать, — это обоснованье. В военном деле я ничего не смыслю.
Он находился в Хакенсаке, когда пал Форт Вашингтон и в руки к англичанам, точно лакомый плод, угодили разом три тысячи пленных. В Хакенсаке, на пять миль дальше от берега, чем Форт Ли, расположилось более крупным лагерем соединение потрепанной Континентальной армии, солдаты из Джерси и Пенсильвании, разболтанные горлопаны; грязь и убожество лагеря навевали на Пейна тоскливые воспоминанья о филадельфийском ополчении. Бивак кишел маркитантками всех возрастов и всех степеней паденья. Солдаты держали кур и поросят и своим поведением успели заслужить лютую ненависть у местных фермеров.
Грин сказал ему:
— Ступайте посмотрите — может, удастся втолковать этим свиньям, за что они воюют.