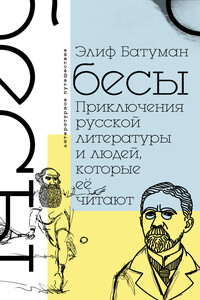Кстати, ваше отождествление [ш] и [щ] неправомерно: это разные фонемы. И нельзя утверждать, что у действительных причастий [ш] неизменно присутствует в суффиксе. Заметим также, что я не вижу причин утверждать, что «корней, содержащих [ш], в русском языке немного». Где доказательства? Действительно, не так много корней, которые начинаются с [ш]. Но нельзя сказать, что мало корней, содержащих [ш].
Апелляции к фоносемантике призваны запугать «профанов-графоманов», однако вы допускаете в своих построениях ошибки, очевидные для всех, кто с фоносемантикой работал. <…>
…Вопрос надо ставить так: где уместно использование фоносемантики в качестве инструмента исследования. Потому что существует-то она везде, но не везде проявляет себя.
Поэзия, во-первых, потому что в ней звук имеет больший удельный вес, нежели в прозе. Однако здесь тоже надо осторожно: в «смысловых» стихах именно смысл формирует восприятие, фоносемантика выступает в основном фоновой составляющей.
Экспрессивная лексика и вообще слова, где ослаблена смысловая составляющая: грымза — яркий пример. Понятийная составляющая крайне мала: лицо женского пола. Все остальные признаки (злобный, вредный, плохой) — фоносемантические. Допустимо при выборе синонимов — опять же как дополнительный элемент.
Сюда же относятся имена, бренды, названия торговых марок, иностранные слова. Стиральная машина «Ардо» более «авторитетна» для нас, чем стиральная машина «Миле», потому что «ардо» — слово большое, надежное, а «Миле» — маленькое, женственное.
Но и здесь важен еще один аспект: как взаимодейтсвуют звуки в слове. Они могут усиливать друг друга, могут нейтрализовывать. Яркий пример — «Шанель». Это слово, несмотря на шероховатое страшное [ш], ассоциируется с изяществом, женственностью — потому что последующие звуки «перетягивают».