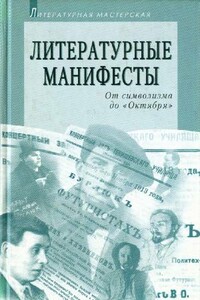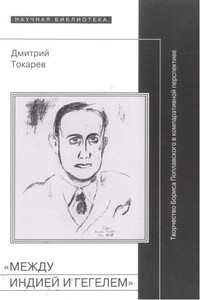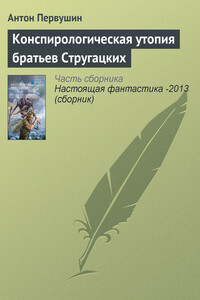И вот он, результат:
Почувствовавший поддержку (здесь «ж» читается, как [ш] — sic!) Артёма, Данила мощнейшим (!) движением руки решительно обезглавил ещё одного противника. Последний шарахнулся прочь, в прилегающие заросли.
Рыдайте, бабы.
Итак. Для чего же всё-таки нужна опция «Статистика» в программе Word? Записывайте правило: в боевых и любовных сценах на 250 символов с пробелами разумно употребить 1 (один!) звук [ш] или [щ]. Один — на двести пятьдесят символов с пробелами, повторяю. Максимум — два. Динамика сражения и любовного акта входит в противоречие с фоносемантикой шипящих. Постельные и боевые сцены должны читаться на одном дыхании.
Шипящие нужны для другого: для непринуждённого создания обстановки домашнего уюта; для размышлений о судьбах несчастной родины; для вынашивания планов страшной мести; для пародирования канцелярской речи; для нагнетания атмосферы шабаша или вопиющего преступления.
Повторяю: для создания атмосферы. Но не для движения. Для размышлений, но не для действия. Для пародирования прямой речи, но не всерьёз в речи от автора. Звук [ш] очень коварен. «Чшшш», — говорит нянюшка, баюкая дитятку. И (не дадут соврать молодые матери) засыпает вместе с младенцем сама.
Если угодно, это намёк. Отказ от большого количества шипящих дисциплинирует и автора, и текст. Лично я, пока писала эту часть лекции, с трудом удерживала мысль.
Бонус
В словах: конечно, скучно, пустячно, девичник, тряпочный, скворечник, а по Розенталю ещё и прачечная, а по старинке ещё и булочная вместо [ч] следует читать [ш].
В словах: что, чтобы, ничто вместо [ч] следует читать [ш].
В женских отчествах на «-ична» [ч] следует читать [ш].
В словах: мужчина, перебежчик вместо [ж] следует читать [щ].
В словах: жёстче, хлёстче, хлестче вместо [стч] следует читать [щ].
В словах: грузчик, резчик, извозчик, заказчик, подписчик, счёт, песчаный счастливый вместо [зч] и [сч] следует читать [щ].
Выводы, разумеется, сделаете сами.
Итак, у меня есть несколько серьезных замечаний к этому тексту.
Необоснованно объединение [ш] и [щ]. Эти звуки, конечно, близки, но по фоносемантическим параметрам они различаются.
Я проверила ваши «фоносемантические» утверждения по настоящим фоносемантическим таблицам Журавлева. И вот что получилось.
[ш] по шкале «большой — маленький» имеет индекс 3.2 (это практически середина шкалы, выраженным признак считается, если индекс меньше 2,2 и больше 3,8). «слабый — сильный» (это вы имели ввиду под «мощный»?) — 3.4.
Эти индексы показывают, что звук скорее никак не охарактеризован по этим признакам.
По шкале «величественный — низменный» (в ваших терминах — «возвышенный») — 4.0. Это значит, что этот звук ассоциируется как раз с низменным.
Итого: три серьезные ошибки в трех утверждениях.
«Нежный — грубый» (в ваших терминах — «звук домашнего уюта, нежности и приглушенных тонов») — индекс 3.2. Опять же, звук никак не охарактеризован.
По шкале «женственный — мужественный» индекс 2.8. Опять же, звук скорее никак не охарактеризован по этому признаку.
«Основательный» — это, как я понимаю, то же, что и в терминах фоносемантики — «простой»? По шкале «простой — сложный» звук [ш] имеет индекс 3.1 То есть он, опять же, никак не охарактеризован.
По шкале «безопасный — страшный» индекс 4.2. «Гладкий — шершавый» — индекс 4.1.То есть звук [ш] воспринимается скорее как страшный и шершавый, нежели как безопасный и гладкий. Браво, первое попадание есть. Однако нет никаких оснований утверждать, что это его свойство проявляется только в сочетании со звуком [р].
Все предметные ассоциации, связанные со звуком [ш] являются ассоциациями индивидуальными и никакого отношения к фоносемантике как к науке не имеют (это я про коршунов, башни и тетешки).
Фоносемантика — это наука, а не полет фантазии отдельно взятого редактора.
В целом звук [ш] имеет следующие ярко выраженные фоносемантические особенности: плохой, темный, шероховатый, страшный, низменный, тусклый, тихий.
Из этих признаков нельзя сделать вывод, что он плох для описания каких-то сцен. Фоносемантические характеристики начинают играть активную роль в восприятии слов в том случае, если понятийное ядро минимизировано (экспрессивная лексика, например), если «работает» звукоподражание или если звуковая сторона акцентируется (как в стихах). В иных случаях фоносемантические ассоциации работают как фон, который одни люди воспринимают лучше, другие — хуже. Тем не менее, понятийное ядро в восприятии доминирует всегда.