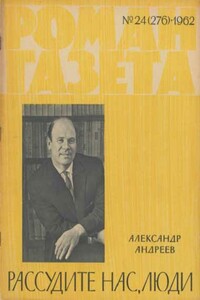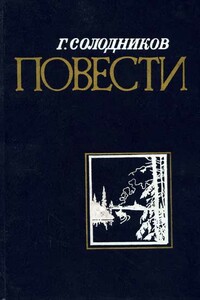— Да ведь хозяева… — оправдывался сторож. — Откуда ж вы взялись?..
— Мы целую неделю охраняем тебя, старик, чтобы, кой грех, тебя не уволокли…
Дверь амбара загремела под глухими ударами.
— Матвей! — закричал Кокуздов, наклоняясь к дыре у порога. — Отопри! Не озоруй, слышишь? Отопри сейчас же!..
Павел, поднявшись, наказал Моте:
— Не отходи ни на шаг! Никого не подпускай! Я скоро вернусь.
За дверью Кокуздов проговорил с испугом:
— И Назаров здесь!..
Павел пошел от амбара быстрыми шагами, затем побежал, торопился к Аребину.
На все просьбы Кокуздова открыть дверь Мотя Тужеркин, посмеиваясь, отвечал хрипло:
— Чудные, право… Как я вас выпущу, если ключ находится у Пашки Назарова, в надежных гвардейских руках! Но если бы ключ был у меня, то все равно не отпер бы: зря я мерз тут, поджидая вас, голубчиков, зря я простужался? Каково мне, взводному запевале, с таким голосом жить? И потом совесть не дозволяет давать вам амнистию. Понимаешь, Кузьма, я, моя мать и другие люди голосовали за тебя, как за честного, а на поверку выходит, ты жулик. Вот если бы ты, Кузька, ударил меня по морде, тебя бы назвали хулиганом, а я дал бы тебе ответный удар по тому же месту. Но если ты ударишь младенца, то ты уже подлец — младенец сдачи тебе не даст. А теленочек — тоже ведь младенец. Ты у него крадешь последнюю горсть пищи. Что ему остается делать? Ноги протянуть… Подлец ты, Кузька! Я не желаю с тобой разговаривать, совесть протестует…
— Ну, погоди, дурак, чужеум, — пригрозил клокочущим от ненависти басом Омутной, — мы твою гнилую хибару пеплом покроем!
Мотя опять усмехнулся над злобной неразумностью пленных.
— Подожжете? Эка угроза! Ее давно пора подпалить, не жалко.
Первым к амбару подбежал своей неугомонной трусцой дед Константин Данилыч; блестя стеклами профессорских очков, сокрушенно качал головой.
— Ах злодеи!.. Ах проходимцы!..
Появился-Аребин с Орешиным. Павел Назаров подъехал на подводе вместе с женой Кокуздова. Насмерть перепуганная баба пронзительно выла, тыкаясь лбом в мешок с просом:
— Простите, люди добрые!.. И-и, простите, люди добрые!..
Собравшаяся у амбара толпа недружелюбно гудела:
— Отпирай, Павел. Выпускай их!..
Павел отдал ключ Орешину. Тот долго отпирал замок: ключ дрожал в руке, не попадал в скважину.
— Выходите, — сказал Орешин.
Пленные не выходили, амбарная дверь зияла черно и немо.
Люди все прибывали, толпясь поодаль, шумели, выкрикивали:
— Затаились, крысы!
— Боятся света божьего!..
— Батюшки, неужто так и застали?..
— Запереть их до милиции…
Орешин заглянул в амбар.
— Выходите, говорю!
Толпа примолкла. Порог перешагнул Кокуздов, пунцовый от стыда, потный, жалко съежившийся. Омутной перевалился тяжело, остановился, исподлобья озирая людей. В тишине прозвучал голос Натальи Алгашовой:
— И это люди?.. Недоноски!
Расшвыривая толпу, к амбару подлетел Коптильников, бледный, с перекошенным от злости лицом. Он ударил Кокуздова в челюсть, тот сунулся носом в грязь.
— Вор! — брезгливо выругался Коптильников. — Бандит! В заместителях ходил!..
Жена Кокуздова заголосила еще сильнее:
— И-и, люди добрые!..
Павел повернулся и, ссутулившись, побрел прочь. История с выслеживанием и поимкой воров вдруг показалась ему до отвращения гнусной, а собственное поведение — мелким, недостойным звания гвардейца. Он заплакал от боли и стыда за людей, которые живут нехорошо, низко, подло обкрадывая своих близких…
13
— Заверял я вас, граждане, когда взбирался на свой высокий пост, отдать все свои силы для поднятия нашего общего дела, — глухо и как будто с натугой проговорил Коптильников, заканчивая отчетный доклад. — Но, как видно, сплоховал: силы-то отдал, а дела не поднял — не по коню воз. Виноват я перед вами. Если, случалось, крут был в обращении — извиняйте: ругался не ради красного словца, за брань хватался, как тонущий за соломинку. И вам скажу напрямки: вы тоже не херувимы с крылышками за плечами. Во многих из вас сидит рогатый черт! С какого боку ни подступись — на рога наткнешься. Выходит, как говорится, не сошлись мы с вами характерами. Еще раз извиняйте…
И Коптильников неловко, против воли своей поклонился, затем устало опустился на табурет. На душе было нехорошо, унизительно от признания своей слабости. Но ловчить и изворачиваться было бы еще унизительнее. И, возможно, в этом откровенном признании вины и заключалось сейчас его мужество. Быть может, это отметит и Наталья Алгашова — ее Коптильников стыдился почему-то больше всего; вон она стоит за спиной Павла Назарова; сквозь махорочный чад светятся ее зубы — значит, смеется над ним и, конечно, презрительно, с жалостью. А Павел уже когти наточил, словно ворон… И не только один Павел. Еще бы! Коптильникова свалили!.. Крик возмущения, обиды, ненависти рвался из горла; Коптильников задыхался. Припухлость под глазами побагровела, бледный лоб покрыл бородавчато-крупный пот, как после тяжкой, изнурительной работы.