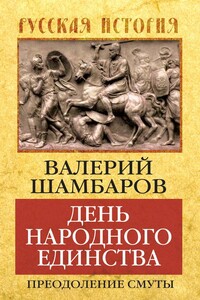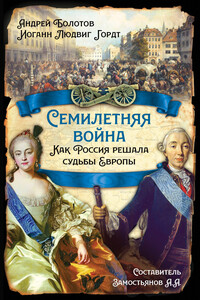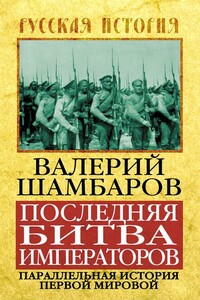Когда литовские князья переходили на службу в Москву, не имея возможности передать в ее обладание свои уделы, московские государи сами жаловали им земли в удел. Князю Фед. Мих. Мстиславскому был пожалован в первой четверти XVI века выморочный Юхотский удел Ярославской области. Когда в 1493 году московские воеводы взяли у Литвы Вязьму и князей Вяземских привели в Москву, великий князь их пожаловал их же «вотчиною Вязьмою и повелел им себе служити», так же поступил он с приехавшим тогда служить ему князем М. Мезецким; но братья последнего, насильно привезенные в Москву, были посланы в заточение[44].
Оставляя служилым князьям почти в прежнем объеме власть над уделами, московское правительство стремилось к тому, чтобы эти князья не порывали своей служебной связи с московским государем и не выводили своих земель из-под его верховного обладания. Первоначально Великие князья Московские не лишают служебных князей свободы личной службы; эти князья являются такими же вольными слугами, как и бояре. Но, в противоположность боярам, служебные князья рано лишаются права сохранять в своем владении вотчины при переходе на службу к другому государю. Великий князь Василий Васильевич Темный обязал своего дядю, князя Юрия, в 1458 году не принимать к себе в службу с вотчинами московских служебных князей, «а которые имут ему служити и им в вотчину свою не вступатися». Тот же великий князь наложил на князя тверского Бориса Александровича такое обязательство: «…а кто моих князей отъедет к тебе служебных, и в тех ти вотчины не вступатися, кого ми Бог поручил, ни твоим детям, ни твоей братье молодшей».
Великий князь Иоанн Васильевич III идет далее своего отца, Василия Васильевича, по пути закрепощения служилых князей. Эти князья теперь не только не имеют права передать кому-либо своих уделов, но и сами не могут перейти к другому государю на службу, становятся лично несвободными. Для достижения этой цели Иоанн Васильевич берет со служебных князей клятвенные записи о верной службе и неотъезде. Такие записи брались с конца XV века, преимущественно от южнорусских князей, выходцев из Литвы, Мстиславских, Воротынских, Бельских, которых московское правительство подозревало в желании отъехать в Литву. В древнейшей из дошедших до нас записей этого рода, или укрепленных грамот, 1474 года князь Даниил Дмитриевич Холмский дал следующие обязательства: «Мне, князю Даниилу, своему осподарю, великому князю Ивану Васильевичу и его детям служити до своего живота, а не отъехати ми от своего осподаря, ни от его детей, к иному ни к кому. А добра ми ему и его детям хотети всегда во всем, а лиха не мыслити, ни хотети никакого. А где от кого услышу о добре или о лихе государя своего, великого князя, и мне ты сказати, государю своему и его детям вправду, по сей моей укрепленной грамоте, без хитрости… А крепости деля, князь Данило Дмитриевич Холмский осподарю своему, великому князю Ивану Васильевичу целовал еси честный и животворящий крест и дал есми на себя сию свою грамоту за подписью и за печатью осподина своего Геронтия, митрополита всея Руси». Но личными обещаниями строптивого слуги, замечает проф. Сергеевич, Иоанн Васильевич не довольствовался, он требовал, чтобы за него поручились другие и обеспечили свою поруку обязательством уплатить известную сумму денег в случае его отъезда. За князя Холмского поручились восемь служилых людей всего на сумму 8 тыс. рублей[45].
Дело, начатое Иоанном Васильевичем, продолжается сыном его Василием III и внуком Иоанном IV. При малейшем подозрении в желании отъехать служебный князь берется под стражу, а затем дает запись и представляет за себя поручителей. Эти последние, в свою очередь, должны были представить за себя поручителей «подручников». В неотьезде того или другого князя оказывались, таким образом, заинтересованными сотни служилых людей. В 1568 г. за князя Ивана Дмитриевича Бельского поручились 29 бояр; шесть из них представили за себя 105 подручников. Иоанн Грозный такими мерами, писал князь Курбский, «затворил царство Русское, сиречь свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне»