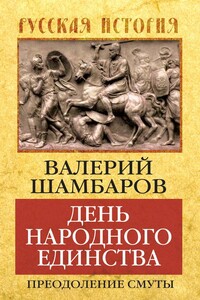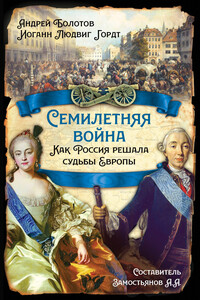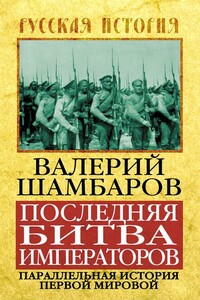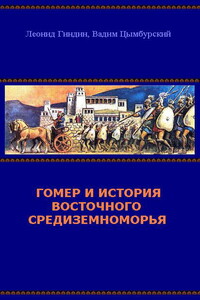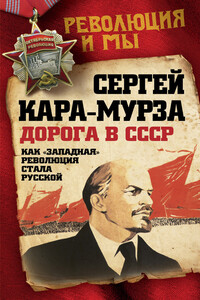Московские государи охотно принимали к себе слуг бояр и князей из других княжеств. Но двор их был полон знатными родами; здесь встречались не только потомки великих князей, но и сами великие князья, лишившиеся своих княжений. Вступая в среду этой знати, не только удельные, тверские и другие бояре, но и мелкие владетельные князья сразу принижались в своем значении. Князь В. В. Ромодановский, потомок утративших удельную самостоятельность князей стародубских, служил боярином у удельного князя Михаила Андреевича. Впоследствии, в 1501 году, он служит в Москве уже в более низком чине окольничего и умирает, не дослужившись до чина московского боярина[47].
Появление большого числа служебных князей при дворе московских государей не повысило и даже не поддержало прежнего правительственного значения придворной аристократии; при Иоанне III и Василии III значение ее, напротив, заметно понизилось в сравнении с временами уделов. В удельный период бояре пользовались большим влиянием в качестве самостоятельных советников-думцев; великий князь должен был считаться с мнением своих вольных слуг, которые отказывали ему в повиновении, когда он что-либо «замыслил о себе», без ведома бояр. Когда в состав этой боярской думы вошли представители владетельных княжеских родов, значение ее должно было бы еще более повыситься. Многие из князей пришли служить добровольно московскому государю и заявляли притязание на то, чтобы им, в новой роли независимых советников государя, была сохранена часть их прежней политической независимости.
Между тем московские государи, с объединением Руси, оказались достаточно могущественными, чтобы противопоставить этим притязаниям усиление власти государя-самодержца и умалить значение боярской думы вообще, а вместе с тем и новых ее влиятельных членов, князей. В начале княжения Василия Дмитриевича, по сведениям 1409 года, наиболее влиятельным лицом был московский боярин не княжеского рода Иван Федорович Кошка; крымский хан Эдигей называет этого боярина старейшиной бояр и единственным советником великого князя. Род Кошкиных сохранил видное положение и позднее. Затем, когда в княжение Василия Дмитриевича и Василия Темного в среду московской аристократии вошло много князей Рюриковичей и Гедиминовичей, они заняли первенствующее положение, оттеснив старые боярские роды. При Василии Темном виднейшее место принадлежало князьям Патрикеевым-Ряполовским и Оболенским; к ним присоединился княжеский род Холмских, бывших удельных князей Тверского великого княжества. Эти роды сохраняли свое первенствующее положение среди бояр и при Иоанне III.
Но именно в то время, когда служебные князья в этом своем высоком положении находили опору для своих притязаний, основанных на удельных преданиях, московский государь, в противовес их притязаниям, возвышает значение своей личной власти: Иоанн III утверждает самодержавие. После брака с племянницей последнего императора византийского, Софией Палеолог (1472 год), Иоанн, говорит Соловьев, «явился грозным государем на московском великокняжеском столе; он первый получил название Грозного, потому что был для князей и бояр монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание; он первый возвысился до царственной недосягаемой высоты, перед которой боярин, князь, потомок Рюрика и Гедимина должен был благоговейно преклониться наравне с последним из подданных; по первому мановению Грозного Иоанна головы крамольных князей и бояр лежали на плахе». Великий князь, говорили бояре, «переменил старые обычаи» под влиянием Софии и пришедших с нею греков. «А которая земля переставливает свои обычаи, та земля не долго стоит», – заметил боярин Берсень-Беклемишев, недовольный тем, что государь изменил свое отношение к боярам.
Знамением нового времени была казнь князя Семена Ряполовского-Стародубского, который, по выражению Иоанна, слишком высокоумничал с князем Иваном Патрикеевым; Патрикеевы и Ряполовские принадлежали к знатнейшим княжеским родам. Князь Юрий Патрикеевич был женат на дочери великого князя Василия Дмитриевича. Сын Юрия, Иван, был первым боярином при Василии Темном и продолжал первенствовать при Иоанне III; иностранные послы и даже брат государя Андрей обращались к нему с просьбами о посредничестве. Князья Патрикеевы состояли в родственной связи с другим знаменитым княжеским родом, возвысившимся при Василии Темном, – князьями Ряполовскими. И вот, несмотря на важное значение, родство и заслуги их отцов, Иоанн III в 1499 году велел схватить князя Ивана Патрикеева с двумя сыновьями и зятя его Семена Ряполовского и приговорил их к смертной казни за тайные действия (как предполагает Соловьев) против великой княгини Софии и ее сына. Князю Ряполовскому отрубили голову на Москве-реке; просьбы духовенства спасли жизнь князьям Патрикеевым, но их постригли в монахи