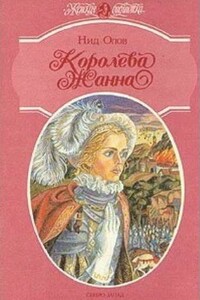(Он догадался об этом, стиснул зубы, было мучительно увидеть в глазах другого человека моментальный снимок себя самого в таком неприглядном виде, уже недоступном для ретуши.) Ее любовь уже пережила крушение иллюзий. Она согласилась принять его таким, каков он был: не выдерживающим больших нагрузок. В критические минуты на него положиться нельзя.
(Но иногда у Давида в душе вновь и вновь поднималось чувство протеста: это не совсем так. Почему она не хочет разобраться?)
Инстинкт материнства заставил ее напрячь все силы, сделал саму ее слабость действенной: что ж, придется тогда этим заняться мне, взять на себя тот груз, который оказывается самым тяжелым…
Эта мысль не испугала ее. Наоборот, сняла то таинственное и опасное, чего она боялась в характере Давида.
Но теперь она попала в противоположную ситуацию. Теперь она сама стала обузой. И ожил опять страх, что Давид изменится, замкнется в себе, станет чужим и непонятным, ускользнет. Страх, трудно выражаемый словами. Холод в руках и дрожь во всем теле. Неверие в возможность выздороветь и наладить свою жизнь.
— …А ты был таким добрым ко мне все это время, — прибавила она, смутно ощущая все же угрызения совести.
Давид стоял молча. Он был достаточно чутким, чтобы хорошо понимать ее чувства, — и заразительная меланхолия всеми своими щупальцами потянулась от нее к нему. Ощущение беспомощности, того, что как раз тогда, когда мы больше всего нуждаемся в помощи, мы не можем ее ни давать, ни принимать. Именно в этот момент человек осужден на одиночество, никто не в состоянии проникнуть к нему внутрь, никто не достанет снаружи.
Но попытка оказалась неудачной, щупальцам меланхолии не за что было ухватиться. В следующее мгновение он уже с поразительной уверенностью знал: я могу. Я гожусь. Я в состоянии помочь ей и себе.
— …«Добрым», — усмехнулся Давид. — Разве человек добрый, если не дает своему ребенку упасть в колодец, а своему дому сгореть?
— Нет, но…
— Вот и я «добр» к тебе именно таким образом. Яснее ясного. Потому что ты самое дорогое, что у меня есть. Чего еще у меня нет…
Он произнес это без всяких сантиментов, поворачивая ее спиной и застегивая бюстгальтер.
— А моя рука…
— Плевать мне на твою руку, — сказал он.
Тем временем она попыталась надеть себе нейлоновые чулки, но с одной рукой это было особенно трудно, левая ей только мешала. Она так рассердилась, что впилась вдруг в нее зубами.
Он взял ее ни в чем не повинную руку и поцеловал след от зубов.
— Ну, ребеночек! Сейчас тебе уже лучше?
Да, это уже была разрядка. Она устало оперлась на его спину, пока он сидел рядом, наклонясь вперед, и не чувствовала больше никакого стеснения, что он натягивал ей чулки.
Когда она была уже одета и они стояли друг против друга, слегка улыбаясь, еще не оправившись от смущения, он спросил:
— Ну, а… с венчаньем как? тебе уже больше не хочется?
— Нет, что ты. Только… нет, я хочу, — подтвердила Люсьен Мари.
— Тогда ты должна обещать мне одну вещь.
— Ну?
— Не убегать от меня, если с тобой случится что-нибудь плохое.
— Со мной?
— Да, ты-то определенно не оставишь меня в беде, если случится что-нибудь со мной. Дай такую возможность и мне. Подумай о словах в Священном писании: «Ради этого женщина должна оставить тетю Жанну и держаться своего супруга…»
Она посмотрела в серые глаза Давида, в который раз удивилась его застенчивости, его манере шутливо говорить о самых серьезных вещах. В ней вдруг огнем вспыхнула жаркая надежда на их счастье в браке, на такой союз, в который ни он, ни она не решались верить, не осмеливались мечтать.
Через некоторое время Давид сказал:
— Если бы ты знала, как у меня замирает сердце, когда ты перестаешь владеть собой… Была бы ты похитрее, всегда могла бы использовать это для шантажа.
Люсьен Мари пришло в голову, что нежность и заботливость Давида по отношению к ней не что иное как еще одна сторона его же характера, такого тяжелого во время кризиса с Эстрид. Чего он не мог вынести, так это мысли о том, что он причинил кому-то непоправимое зло. Поэтому он и стал по отношению к ней жестким и ненадежным.
— Ну как, готова теперь? — спросил он.