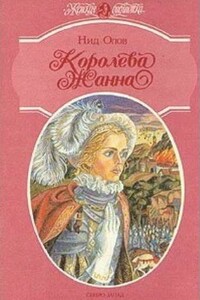— Сколько хлопот я тебе доставляю, — пролепетала Люсьен Мари тем же тоненьким голоском.
Давид не ответил. Он не мог, к горлу неожиданно подступил комок, и он заплакал, когда сознание того, что чуть было не случилось, обрушилось на него, как водопад. Он забыл о монахине, спрятал в одеяло Люсьен Мари свое лицо; ее рука все гладила и гладила его волосы.
Потом он услышал, что к нему обращается монахиня.
— У нее из-за вас повышается температура! — повторила она строго.
Он виновато посмотрел на Люсьен Мари. Да, и в самом деле, глаза ее подозрительно заблестели…
— Лучше вам теперь уйти.
— Нет! — воскликнула Люсьен Мари. — Клянусь, что жар снижается… Мне так больно… Я умру, если он уйдет…
— Вот видите, а теперь у нее повышается температура из-за вас, — укоризненно сказал Давид монахине.
Но потом они заключили перемирие и уселись опять, каждый по свою сторону ее постели. Люсьен Мари успокоилась, погрузилась в забытье. Через несколько часов, когда она опять открыла глаза, он прошептал по-шведски, как будто монахиня не услышит его через свой головной платок.
— Ты меня слышишь?
— Да? — прошептала она в ответ.
— Люсьен Мари — что бы я делал, если бы с тобой что случилось? Я это понял сегодня утром — тогда бы солнце взошло для меня черным, и никогда больше не запели бы птицы…
— О боже, ты говоришь слишком быстро, я не поняла, что ты сказал в конце, — жалобно промолвила она, и казалось, она получила подарок, а потом его потеряла.
Но он постеснялся повторить эти слова по-французски. Кстати, тут вмешалась монахиня, осуждающим перстом указывая на Люсьен Мари.
— Посмотрите, как вы ее волнуете! Я не хочу за это отвечать, — и она зашагала вон из палаты в своих плоских широких башмаках.
— О, — произнесла Люсьен Мари. Они взялись за руки и стали ждать. В ее маленькой горячей руке бешено бился пульс…
Где-то в глубине его сознания зазвучали слова:
Солнце взошло, но оно было черным
Запела птица, но горлышко ее было
проколото…
Другая мысль возражала конфузливо: не хватало только, чтобы ты использовал это в каком-нибудь стихотворении… Но ему было безразлично, в одном плане он размышляет или в нескольких, где-то внутри у него все равно звучала печальная песнь птицы, где-то в глубине души он знал, что в конце концов могло тогда произойти.
Дверь распахнулась и сама матушка-настоятельница появилась в дверях. Монахиня в круглых очках мелькнула было за ней, но аббатисса вошла одна и закрыла за собой дверь.
Давид поднялся, продолжая держать руку Люсьен Мари в своей.
Тонкая рука настоятельницы вспорхнула в жесте учительницы, и она промолвила с удивительно веселой иронией:
— Но, дети мои, надо же быть благоразумными…
Давиду представились на миг великие аббатиссы прежних времен, тех, что в дни своего величия были знатными дамами, с богатым опытом в женских делах, а уходя в монастырь, отрекались от света — но не от своей осведомленности о нем.
Возможно, такая судьба была и у этой настоятельницы — во всяком случае по-французски она разговаривала как настоящая великосветская дама.
Она, разумеется, отлично понимает, что человек волнуется и переживает из-за подобного поворота в болезни, подчеркнула она, но теперь самое главное это предоставить больной полный покой. Ночное дежурство можно полностью отменить, в нем не только нет необходимости, наоборот, оно было бы нежелательно; зато чрезвычайно желательно, чтобы месье смог заходить сюда ежедневно на часок во второй половине дня.
Губы у Люсьен Мари задрожали.
— Но, мадам, только благодаря ему я и начала поправляться…
Но подобные сентиментальности не производили никакого впечатления на настоятельницу.
— Теперь вам нужно все забыть и только лежать себе, отдыхать и дремать, — сказала настоятельница. — Вы и не заметите, как пройдет время, и он опять будет здесь у вас.