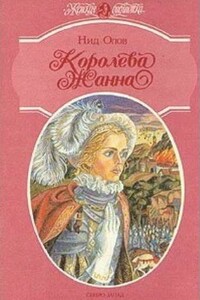— Почему тебе жалко рыбака, а не меня? На что буду жить я?
— Ты-то уж найдешь кого-нибудь, у кого сможешь взять в долг, — вздохнул Давид. Увы, он догадывался, у кого именно. Он как раз получил немного денег после матери. Немного, правда, но все же какой-то резерв.
Когда дело было закончено и они вышли от почтовой дамы на цветастом диванчике, Давид вздохнул с облегчением, как будто с него свалилась тяжесть. Он улыбнулся, с некоторым удивлением иронизируя над собой, и повернулся к ней, чтобы объяснить, зачем он вдруг стал ей читать мораль, когда она с уважением и еще с каким-то едва уловимым чувством произнесла:
— Никогда бы не подумала, что кто-нибудь, кроме верующего, может быть таким строгим.
В замешательстве Давид понял, что у нее это не было насмешкой.
— Что ты имеешь в виду? А ты не думаешь, что неверующий тоже может быть честным?
— Нет, но… — начала она и казалась совершенно сбитой с толку. — Там-то, дома у нас, ясно, все знают, что такое грех и проклинают его — но писатели и всякие другие…
Давид улыбнулся:
— Ну, не все же писатели оставили в твоей душе такой горький осадок?
— Я знаю только немногих, — призналась она. — В той компании, куда я попала, когда приехала в Стокгольм, было несколько человек из тех, что пишут в газеты — иногда, если удастся пристроить то, что напишешь — и несколько художников. И все они жили, как придется, часто вместе, а деньги — да денег почти ни у кого и не было.
— А как ты туда попала? И когда?
— Два года назад. Когда приняли мою книгу. Тогда я должна была податься из дому.
— Почему же?
— Ну, понимаешь… мама и все в нашем приходе с ума бы сошли. Это ведь светская книга. Греховная.
Давид опять испытующе посмотрел на нее, но в ее голосе и намека не было на кавычки.
Как все люди, выросшие в очень стесненных условиях, она привыкла считать само собой разумеющимся все то, что относится к ее персоне: «мама», «прихожане», эти слова покрывали такие обширные области на карте ее души, что она даже не находила нужным их объяснять.
Он спросил, как она начала писать. Тут она зажглась:
— Я не могла не писать! Я писала массу, массу, только потихоньку. Никто не понимал, чем я занимаюсь у себя на чердаке, все думали, что я немножко туповата. А потом, однажды вечером — на богослужении — мне было видение.
— Видение?!
— Да. Меня понесло куда-то, люди все исчезли, голоса слышались издалека, только свечки разгорались все ярче, все ярче… Но это не было зовом, призывом к спасению души.
Она содрогнулась с головы до ног, будучи все еще во власти своего таинственного страха.
Он спросил неловко:
— А «видение», «зов» тебе какой был?
— Что я должна убежать и стать писательницей. Большой писательницей, — подчеркнула она, с естественным высокомерием избранной и отмеченной.
Давид долго молчал. Отчасти слова девушки помогали понять ее личность и поведение, — но не тот необъяснимый факт, что к ней пришла удача.
— Мне бы хотелось прочесть твою книжечку, — сказал он. — Она у тебя с собой?
Впервые Наэми покраснела, «как молодая девушка».
— Она у меня здесь, — застеснялась она и начала теребить узел веревки, обвязывающей чемодан, который нес Давид.
— Подожди, мы сейчас придем, — остановил он ее и перешагнул через одну из спящих на дороге собак. — Вот мы и дома.
Они благополучно разминулись со стадом коз, маленькая худая женщина босиком гнала их в этот момент вверх по крутой улице. Козы были тоже маленькие и худые, на зимнем пастбище в горах особенно не разгуляешься, но все они весело семенили на утреннем солнышке.
Женщину прозвали «Поющая Мария», он слышал ее каждое утро. Теперь она тоже пела своим резким голосом какую-то печальную песенку, он мог различить только припев:
Память, забудь, забудь
Того, кого помнишь…
Давид остановился. «…Того, кого помнишь». Наэми тоже остановилась и обернулась вслед козам.
— Взгляни на их безумные желтые глаза, — скривила она губы. — Так и видно, что они злые, эти животные.
— А разве есть злые животные? — удивился Давид, ласково глядя на беременную черную козу, так мужественно и старательно шагавшую вперед по каменистой дороге. Она напомнила ему Консепсьон.