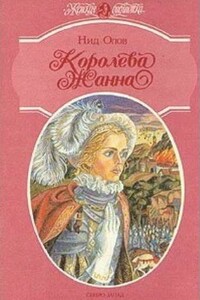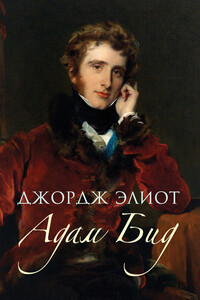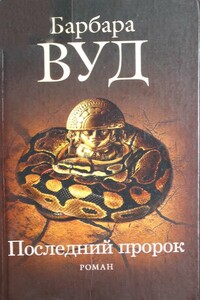— Нет, — ответил Давид напряженным, глухим голосом.
Неужели Морис и его сподвижники никогда не испытывали сомнений в подобной ситуации, никогда не знали искушения? Тогда он не из их породы.
Эль секретарио в бешенстве указал ему на дверь.
Давида увели обратно в камеру.
На следующий день его привели опять — на допрос, как он полагал.
На этот раз эль секретарио был застегнут на все пуговицы и в белом воротничке. Нет, никогда испанец не бывает смешным, даже этот маленький жирный человечек. Он стоял, а сзади него наискосок застыл лейтенант. Серьезность окутывала их, как плащи окутывают тореадоров. На миг Давид увидел их, как на картине — портреты испанцев, любого столетия: оба их лица, одно жирное, другое сухощавое и широкое, с крепко сжатыми губами и черными, непроницаемыми глазами католиков.
Эль секретарио держал в руках какую-то бумагу.
— Вот ордер на вашу высылку, — заявил он. — В течение двадцати четырех часов вы обязаны покинуть Испанию.
Давид не понял.
— Но ведь я не давал честного слова, — сказал он немного испуганно, как будто честное слово они могли вырвать у него во сне.
Эль секретарио и бровью не повел.
— Через двадцать четыре часа вы должны быть по другую сторону границы, — повторил он, повернулся на каблуках и вышел из комнаты.
Давид вопросительно посмотрел на лейтенанта.
— Вы свободны, — подтвердил тот. — Можете идти домой. При условии, о котором вам только что сообщили.
— Почему же я так легко отделался? — спросил Давид, как будто опасаясь расставленной ловушки.
Лейтенант пожал плечами:
— Вот видите, мы можем проявить и мягкость. К тому же оказалось, что ваше участие во всей этой истории было самым пустяковым.
Давид резко вскинул голову. Но слова, вертевшиеся у него на языке, к счастью, так и остались непроизнесенными.
Они ничего не узнали об Антонио.
Давиду выдали его портфель и под эскортом проводили до двери. Не нужно было даже возвращаться в камеру.
Его выставляют из страны.
Теперь мимо «Магги» и «Персиля», к площади с белым каменным фонтаном и балконами.
Там, у поворота, по другую сторону площади, пустая лавочка Жорди.
Люди останавливались, глядели ему вслед, множество глаз следило за ним из магазинов и из почты.
Удивлялся исходу дела не он один.
Он ни с кем не здоровался, никто не осмеливался поздороваться и с ним.
Четыре дня в тюрьме, — а у него было такое чувство, будто он восстал из могилы, будто снова вернулся к живым из мертвых.
Теперь он бы лучше понял Жорди.
Перед кинотеатром сторож наклеивал новую афишу о фильме с боем быков в новогодний вечер: «Завтра: эль матадор». Слово, как рыбья кость, застряло у него в горле. Эль матадор — это убийца. Тот, кто себе и публике доставляет изысканное наслаждение, закалывая затравленное животное.
Только когда он прошел мост и неизменных женщин, стирающих белье в реке, до него, наконец, дошло: я свободен. Я иду домой к Люсьен Мари и малышу.
Он пустился бегом.
Через пять часов они сидели в такси Гонзалеса и смотрели через большую дыру у тормоза, как красно-бурая земля убегает назад.
Дома у них началась страшная паника, когда Давид обнаружил, что они не успеют перебраться через границу до назначенного срока, если поедут завтра, хотя бы и утренним поездом.
И поэтому опять теперь бешеная гонка, с горы на гору, по скользкой дороге, с зияющими безднами по одну сторону — и с исполненными очарования пейзажами по другую.
— А вы не боитесь ехать с такой скоростью, сеньор Гонзалес? — спросила Люсьен Мари, едва решаясь дышать от страха.
— Никогда — ведь со мной за рулем сидит мой ангел-хранитель, — объяснил Гонзалес. — Вот, посмотрите — часто я вообще снимаю одну руку с баранки и даю править ему…
Они закрыли глаза, им оставалось только одно — положиться на искусство ангела-хранителя Гонзалеса.
Только что;
Печальное прощание с Анжелой Тересой, лежащей в постели, откуда ей, видимо, уже никогда больше не встать — далекой, отсутствующей, и с Анунциатой, ухаживающей за ней. Верной — как кошка.
С Консепсьон, их преданным другом; они оставили ей все, что не могли взять с собой.
Давид заглянул также и к Мигелю, немедленно напустившему на себя мину владельца кабачка — противника всех и всяческих субъектов, преследуемых полицией. Но потом, не поднимая век своих циничных глаз, он огляделся кругом. Убедившись, что поблизости нет ни одной оливково-зеленой личности, он сделал знак головой на своей негнущейся шее и провел Давида в свою личную комнату, пожал там ему руку и подарил на дорогу бутылку своего самого лучшего коньяка.