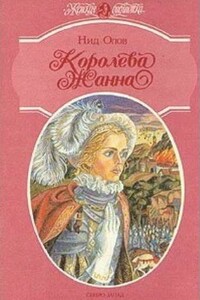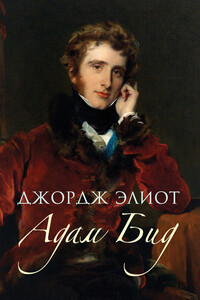31. «Что-то случится со мной… Печальное мое сердце, Что мне нагадаешь?..»
Утро.
— Спрячься, — вполголоса сказал Давид.
Жорди заполз в свою черную нору.
Давид осторожно закрыл крышку, подвинул на нее кровать.
Они распахнули настежь окна и двери, разговаривали, носили дрова, подзывали свистом старую собаку.
Так должен выглядеть дом, в который каждый может заглянуть, если пожелает.
Они были актерами, только играли, не зная, есть ли у них зрители, потому что сейчас жандармов не было видно.
— Вы не хотите сходить в город, сеньор Стокмар? Надо тут кое-что купить, а у меня сегодня, как на грех, много дела! — прокричала снизу Анунциата.
Давид взял сетку и отправился за покупками. На базаре он купил овощи. Потом пошел за рыбой к некоему Антонио. Антонио был для него важнее, чем рыба. Но его нигде не было. Ни среди отдыхающих на пляже. Ни в баре Мигеля.
Когда люди многозначительно ему подмигивали и улыбались, и говорили: ну как, можно поздравить? то Давид всякий раз должен был брать себя в руки, чтобы не показать, насколько далеки его мысли от жены и сына.
Искушенные в таких делах отцы семейства воспринимали это как горделивую застенчивость новоиспеченного отца, смеялись и хлопали его по плечу, а Мигель так даже угостил всех присутствующих своей мансанильей.
В Соласе семейные новости распространяются с телепатической быстротой.
Давид охотно повторял, каким тяжелым был мальчик и как хорошо выглядела Люсьен Мари, но самое плохое было то, что он не мог спросить об Антонио. Жорди особенно настаивал, чтобы он никого о нем не спрашивал.
Ему ничего не оставалось делать, как идти домой и ждать следующего дня.
На мосту он мог опять вспомнить «другую сторону», ту, светлую, где не было места страху. Даже вернулся обратно и купил цветы. Однако и эта сторона оказалась не так уж начисто лишенной страха, обнаружил он, когда поднялся к монастырю и подарил по розе каждой монахине, повстречавшейся ему по дороге. Теперь он любил их от всего сердца — за то, что они дали пристанище Люсьен Мари и малышу, и ему хотелось попросить прощения за то, что он так плохо о них думал. Он ожидал увидеть идиллию с мадонной и младенцем, как прошлой ночью, нежную и кроткую в мягком свете декабрьского солнца; но у Люсьен Мари поднялась температура и она беспокоилась, что малыш не хотел брать грудь.
Сестра отвела в сторону Давида и сказала, успокаивая его:
— Знаете, вечно ведь все матери взвинчивают себя понапрасну, когда у них первый ребенок. Ну, а потом-то, конечно, начинают относиться ко всему поспокойнее.
Давид сидел у постели Люсьен Мари и держал ее руку, но был молчалив.
Он собирался рассказать ей, как странно все получилось с Жорди, но если она уже и без того взвинчена и у нее температура, то решил, что не стоит расстраивать ее еще больше.
Она сразу же спросила, не поймали ли Пако — и обрадовалась, услышав его односложное «нет».
Все ее интересы были теперь настолько тесно связаны с ребенком, что она едва была в состоянии вспомнить о ком-нибудь другом.
— Как же мы его назовем, Давид? Мы ведь с тобой придумывали имена только для девочки, а не для мальчика.
— А ты как думаешь? — спросил он ревниво, а сам с неудовольствием подумал: опять она, конечно, скажет «Морис»…
— Мне кажется, у него должно быть шведское имя, — задумчиво сказала Люсьен Мари, и Давид устыдился своих опасений.
После долгих споров и размышлений они решили пока назвать его Пером. Пер Стокмар.
Конечно, все это было важно и необходимо, но Давид сидел, как на иголках, ему не терпелось узнать, что делается дома, у Анжелы Тересы.
В конце концов Люсьен Мари попросила его отправить телеграмму о событии в ее семье.