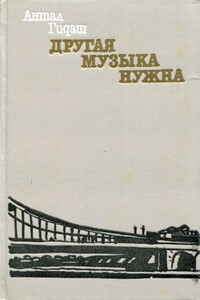— А почему вы не дадите ему пенсию? — спросил Хельвеи. — Ведь он же несчастный человек и скоро погибнет.
Шниттер глянул на свои ногти.
— Параграф закона, относящийся к этому случаю, очень неясен. Нельзя было рассчитывать на такой случай. А кроме того, если мы дадим ему пенсию — конец представлению. Я больше никогда не увижу его. Мы можем от случая к случаю выдавать ему пособие. Жаль, что не угостили его свежими пирожными. Ну и цирк!
И дирекция еще полчаса смеялась над г-ном Чепе. Они повторяли его движения, и снова запорхало слово «pardon»; у некоторых даже слезы текли от смеха. Развеселившийся г-н Хельвеи пригласил в конце заседания коллег приехать к нему в субботу вечером на его виллу, и там в курительной, когда не будет дам, они расскажут всем сегодняшнее происшествие.
— Жаль, что нельзя взять с собой Чепе, — заметил Шниттер. — Что рассказ по сравнению с тем, когда он сам дает представление.
3
Он идет по улице. Шаги его тверды и руки сжаты в кулаки. Шляпу он надвинул на глаза и смотрит прямо перед собой. Он с такой стремительностью вышел из дома № 20 по улице Магдолна, как будто у него неотложное, срочное дело. Но уже после десятого шага он остановился, обернулся, посмотрел перед собой, потом снова повернулся и пошел. Он все еще спешит, дышит прерывисто, торопится выйти на проспект Кёзтеметё.
Когда он подходит к трамвайным рельсам, он не замечает, что трамвай несется прямо на него; вагоновожатый бешено звонит, но он не слышит и шагает по рельсам, как будто этот трезвон относится не к нему. Трамвай останавливается, вожатый бранится, а он поспешно переходит через рельсы и останавливается только тогда, когда натыкается на ограду кладбища.
Куда же ему теперь идти?.. Он смотрит вокруг сухими глазами. Куда? К кому? «К Франку! — решает он. — К Франку». И идет, только уже значительно медленнее, потому что думает о том, что он скажет Франку. Он медленно шагает, и тело его слегка наклоняется вперед.
«Ну, дружище, что ты хочешь предпринять? — спрашивает он себя. — Вот как случилось. Но почему? Чем я это заслужил? Что ж, одним ударом больше. Ладно! Что же, я был груб, даже побил ее, может быть, не любил?.. Не любил?.. Поэтому я бегу сейчас… поэтому… Дура! Верит она тому, что говорит, или только защищается? Плакала… ой, как плакала!.. Терез, не плачь, не плачь, не стоит… Но я не сказал этого, я молчал. Хорошо еще, что только молчал, а не… Значит, она только это поняла из всего, что со мной случилось за те годы? Пил я?.. Ну, ладно, пил. Грубым был?.. Ну, ладно, был грубым. Но я только пил, только грубым был!.. Кто этот негодяй? Сомбати? Я никогда о нем не слышал… А! Не тот, который был там, на улице Мурани?.. Тот!.. Но ведь, значит, это дело началось давно. Что же ты убежал? Почему молчал? Почему не спросил? Ведь важно же знать, когда это случилось, когда началось? Только тогда, когда ты был в Вене, или же раньше, на улице Мурани?.. У, шлюха!.. Обратно! Там, там еще случилось… Обратно!»
Он повернулся и направился к дому. Но вдруг остановился. «Нет! Ну, а если и тогда, не все ли равно? Все равно, разбитого не склеишь. Но если уже тогда, то это другое дело… Как это неожиданно вышло! «Ну, Терез, была ты мне верна?» Она побледнела и заплакала… и сказала: через полгода после того, как я уехал в Вену… Зачем ей врать? Могла и про все соврать. Ведь я не всерьез спросил, просто пошутил… Что мне еще терять? Уже нечего. Вот я и вернулся домой. Тебя, дружище, бог принес. Только не дури…»
Он стоит перед Восточным Вокзалом и смотрит на вокзальные часы. Снова пускается в путь, но так устало, что едва волочит ноги. «Конечно, если ты думаешь, что жену можно просто так оставить… И в это время ты, ты даже не сказал ей… Потому что это другое дело, совсем другое… Ничего не другое!.. Но все-таки другое: у меня следов не оставляет, а у нее оставляет… А если не другое… Но как я обниму ее?.. Гнусная, молчала бы лучше!.. Я грубый был, пил, побил ее… Правда! Но что она поняла из всего? Ничего. Шниттер, Доминич, Лайош Рошта, смерть Шани Батори… Куда мне пойти? Напиться или реветь?»