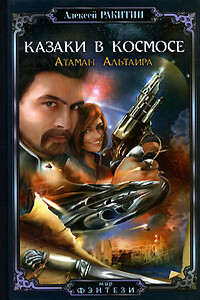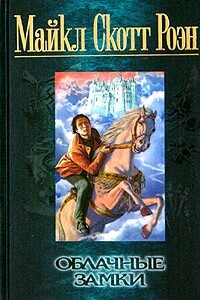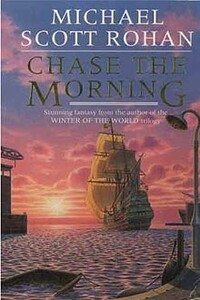А что делается у нас внутри — кому какое дело? Люди — черствые оболочки, под которыми прячется израненная душа.
Спал я почти до полудня — как обычно. Это ведь естественно, что бы ни говорили окружающие — я ночной человек, и я очень люблю ночь. Днем я скован, заторможен и лишь ночью обретаю некое подобие свободы. Мои окна выходят наружу, и, в отличие от многих других жильцов нашего подъезда, я могу наблюдать ночную жизнь своего города. Это очень интересно: смотреть сверху вниз, как шебуршится ночная жизнь. Ночами меня всегда тянет на улицу — я хочу пройтись по пустынным асфальтовым рекам одной теплой летней ночкой, и чтобы пыльные кроны деревьев раскачивались у меня над головой, и иногда в них поблескивали летние теплые звезды.
Может быть, я прошелся бы вдоль всего Верхнего города, миновал эти одинаковые серые, но такие уютные коробки домов и добрался бы до нашей речки Мелочевки — днем видно, какая она грязная, по ней плывут шины, доски с приусадебных хозяйств и иногда мертвые собаки. Но ночью — ночью речка обретает удивительное очарование. Особенно плотина — место, где вода падает. Я читал, что если человеку в горе постоять у быстро бегущей воды, то его скорбь смоет и унесет — уплывет она в какие-нибудь сияющие дали.
Если так, плотина — место, где горести могут застаиваться. Можно представить: сотни и сотни чужих горестей скопились на черных, выступающих из воды камнях сразу позади плотины. Все время падающая вода вырыла подобие котлована, в котором теперь скапливаются приплывшие по реке многочисленные предметы, все, что она захватила на дальнем своем пути. Там и находит последнее пристанище большинство речного сора — кроме того, что прорвется дальше и продолжит свое путешествие.
Мне иногда кажется, что жизнь чем-то похожа на реку, и на ней есть своя плотина, там воды судьбы пенятся и ревут, и я не могу плыть дальше.
Куда плыть? Этого я и сам не знаю, но иногда меня вдруг охватывает ощущение беспричинного счастья и близкой дороги. Я смотрю на самолеты, а стук колес уходящего из города поезда отзывается во мне дрожью.
Еще мне нравится, как восходит месяц — появляется из-за дома напротив и некоторое время, как желтый кот, сидит на его крыше, а потом взлетает в вышину. Полная луна красива — но узкий молочный серп кажется случайно закинутым на небо произведением искусства.
Такова моя ночь. Никогда не засыпая раньше двух, я предаюсь мечтаниям, свернувшись в своей кровати. От этого захватывает дух, и иногда я совершенно отключаюсь от реальности, полностью погрузившись в свой иллюзорный мир.
Вот так проходят ночи — серебристо-синее время чудес. Дни же все одинаковые. Они серые и, в особых случаях, черные. Иногда я ловлю себя на том, что совсем не хочу просыпаться. Правильно, лучше остаться здесь, в уютном гнезде кровати, что с двух сторон огорожена стенами, с третьей — частично письменным столом и шкафом, а с четвертой — торцом упирается в окно так, что лежа можно видеть крыши домов и кусок звездного неба.
Моя мать вешает в ванной четыре полотенца, все разных цветов. Синее, красное, зеленое и роскошное махровое черно-белое. И все чаще я ловлю себя на том, что вытираюсь тем полотенцем, которое подходит под мое настроение. Так, если я чувствую себя более менее прилично, то вытираюсь синим — цвета летнего неба. Если что-то тревожит меня, зачастую использую красное. Темно-зеленое означает тоску и полную жизненную апатию, которая в особо тяжелых случая переходит в черное.
Может, это ненормально? Да какая разница, все равно об этом никто не узнает.
Все, хватит, пожалуй. Я и так написал сегодня слишком много. Но что поделать, что-то бьется внутри и требует изливать свои мысли на бумагу. Иначе я не могу. Может быть, я не такой, как все? Может быть, я даже гений?
В одном я соглашаюсь с отцом — скучным и неинтересным человеком, который совсем не понимает меня — все-таки я слишком много думаю для своих семнадцати лет.