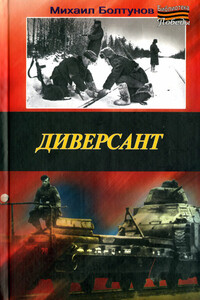— По-моему, нельзя обвинять людей в том, что они так думают… Я хорошо знаю их жизнь. Сам жил среди них. Какая у них жизнь? Живут сегодняшним днем, перебиваются с хлеба на воду… И сегодня, и завтра… и так всю жизнь… Да такую жизнь и жизнью-то назвать нельзя… Скорее, это вымирание… Кто умирает старым, а кто — молодым… Разве кто-нибудь думает о том, чтобы помочь им? Они брошены на произвол судьбы, как какие-нибудь колониальные рабы… Ты их каждый божий день видишь у себя в управе, а я по воскресеньям — в церкви или на кладбище возле гробов умерших родственников. Но разве мы о них думаем? И разве удивительно, что, живя в таких условиях, они иногда начинают возмущаться? Будем же откровенны, когда речь идет о собственной шкуре! Слова, которыми они выражают свое возмущение, могут быть и несправедливыми, и даже лживыми — ну, например, как сейчас. Но ведь сама причина, вызвавшая возмущение, справедлива! А разве не это самое главное?..
Нахмурив лоб, Иштван с трудом подбирал нужные слова. Йенеи подошел к нему вплотную и спросил:
— Ты что, поссорился с Берецем? Или блажь какая в голову пришла?
Пастор непонимающе уставился на него, будто только что очнулся от тяжкого сна.
— Нет. Ни с кем я не ссорился, — пробормотал он и добавил: — Я только хотел бы примириться с самим собой.
— Я вижу, ты слишком близко к сердцу принял всю эту историю. Будет лучше, если ты поскорее с этим разделаешься. Попытайся обо всем этом забыть.
Пастор молчал. Он с отрешенным видом сидел перед Йенеи и походил на человека, который только сейчас понял, что они говорят на разных языках, хотя каждый из них стремится убедить другого. Он встал и быстро спросил:
— Как можно им помочь?
— Кому?
— Тем, кого забрали в Ченгелед?..
— Теперь все пойдет своим чередом. Сначала их там допросят, а потом, думаю, отпустят по домам.
— А нельзя ли позвонить туда, чтобы их сразу же отпустили?
— Нет. Я не имею права вмешиваться в это дело. Да и неумно это было бы, по-моему! А им этот небольшой урок отнюдь не повредит. Больше того, я и тебе советую ничего не предпринимать. А свою философию оставь при себе, а то ведь другие могут тебя понять иначе…
Все это Йенеи проговорил таким ледяным тоном, что Иштван понял: спорить с ним бесполезно.
— Тогда… — неуверенно начал было пастор, но, решив не продолжать, подал Йенеи руку и вышел из кабинета.
Присяжные, сидевшие в большой комнате, по-прежнему болтали о пустяках. Закончив судачить об испортившемся народе, они говорили о своих делах и перемывали косточки знакомым.
Один из присяжных стал рассказывать о чудачествах одного богатого крестьянина. Получив от отца хорошее наследство, он так умножил его, что к старости имел несколько сот хольдов земли и три собственных хутора. Несколько лет назад он раздал нажитое сыновьям, однако дух стяжательства настолько одолел его, что и в преклонном возрасте он никак не мог заставить себя сидеть дома сложа руки, как это обычно делали пожилые зажиточные крестьяне. Старик то и дело появлялся на каком-нибудь из своих хуторов, где он, как правило, ругался с одним из сыновей, а затем, разозлившись, возвращался в село. Однако уже на следующий день он ехал к другому сыну, особенно ему не сиделось дома во время жатвы и обмолота.
В это лето сыновья решили увезти старика на хутор и оставить там его без лошадей и повозки, чтобы он не мог оттуда никуда выехать. Однако старик долго просидеть на одном месте не смог и в один прекрасный день запряг в сани четырех волов (может, густая пыль на дорогах казалась ему снегом?) и выехал на другой хутор…
Эта история так развеселила присяжных, что они разразились громким хохотом.
Когда пастор проходил мимо них, кто-то крикнул ему вдогонку:
— Скажите, святой отец, а вам не приходилось кататься летом на санях?
Иштван от неожиданности остановился и задумчиво посмотрел на них, словно он и в самом деле вспоминал, катался ли он на санях летом. Постояв немного, он неуверенно произнес:
— Нет… Не думаю… — И пошел дальше.
А присяжные теперь смеялись уже оттого, что им так хорошо удалось разыграть пастора.
Иштван долго не мог заснуть.