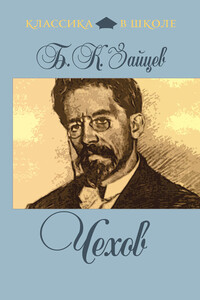- Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.
Ретизанов вспыхнул:
- Извиниться! Нет, это уж черт знает что!
И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь. совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец, выстрелил.
Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с раннем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. 1-1 казалось, так все необыкновенно тихо. будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот КУСОК снега с деревьями, идущий мальчик, серый день,
Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.
- Вот... здесь,- говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.
- Эх, батенька,- сказал доктор подошедшему Никодимову.
- Я предлагал бросить,- сухим, срывающимся голосом ответил тот. Фуражка его слетела. Ветер трепал завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.
Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.
Через четверть часа, на тех же самых голубках, что везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло. Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд - с вокзала тянулись извозчики с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.
Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.
XVI
Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. "Это, должно быть, все-таки было наваждение",- думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.
Ретизанова многие навещали и жалели - в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, взволноваться до конца, страдать, терзаться-- не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.
- Недавно,- сказала она раз Христофорову, уходя,- я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны он страшно великолепен - автомобили, шикарные апартаменты... С другой очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне, чтобы я а Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать... ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели - и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?
Христофоров улыбнулся.
- Потанцевать,- ответил он тихо.- Потанцевать, людей посмотреть, себя показать.
Она засмеялась и пошла к двери.
-- Вот вы какой, как будто бы и этакий... а одобряете легкомысленные штуки.
- Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу,- сказал Христофоров.
Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.
- Не скажу.
Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.
Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал
389
голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

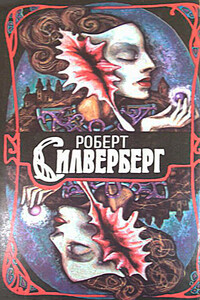
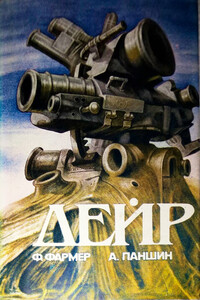
![Пол Андерсон (сборник)[Фейк. Другие переводы]](/uploads/books/images/ec/ec2376f97162d6136c840be257771653139ac276.jpg)