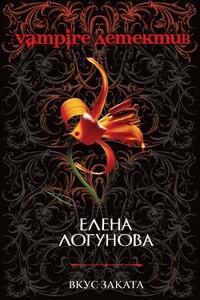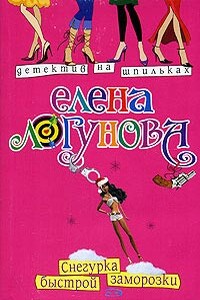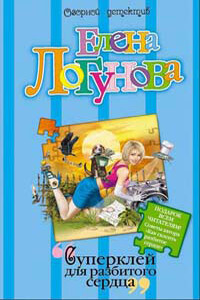1.
Художник поседел, как лунь, и слег,
Не написав единственной картины,
Покрылся пеплом взгляда уголек,
Стал «римский» нос напоминать утиный,
Стал горб расти, а на сердце — скулеж:
Жена ушла и продала палитру,
Сказала: «Напоследок слезы вытру
Твоим безумьем, проданным за грош!»
Что думал, глядя в пыльное окно
И пролежень скребя на ягодице?
Что небо пусто, точно полотно.
Что хорошо б на этом небе — птицу.
Подслеповато щурился на холст
И подводил последние итоги,
А вот и Смерть предстала в полный рост,
Тогда и он, качаясь, встал на ноги.
И, воровато глядя на косу,
Крадя (мое, возможно, даже) время,
Черкал за полосою полосу,
Согбенной музы голосочку внемля,
Мечту писал, и нерв плясал в виске…
Косой отбрили и решили: «Буде…»
И, конвульсивно дернувшись, как студень,
Он рухнул. Уголь хрустнул в кулаке.
И отлетела грешная душа…
Не голубком в библейской паутине
То БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ крылья неспеша
Расправил, вылетая из картины.
2.
Художнику осточертел апломб
Музейных муз, блеск нищих вернисажей —
Он славу перерос свою и лоб
Разбил о поиск стилей и типажей.
В его душе свила гнездо тоска,
Сердца людские в дар он брал с опаской
И до того дошел, что весь каскад
Палитры заменил ночною краской.
Но женщина ворвалась в мир его,
Июлем мастерскую опалило…
Рукой, не рисовавшей ничего,
Рукой, которая лишь все чернила,
Вновь на подрамник ставит белый холст,
И кисть — копье в деснице Дон Кихота:
Вот серый сад, над Черной речкой — мост,
И — ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ посреди полета.
Создал. Позвал. Любимая вошла.
Прими, душа, что я создал, разрушив!..
И свистнули два траурных крыла.
И черный клюв пробил навылет душу.