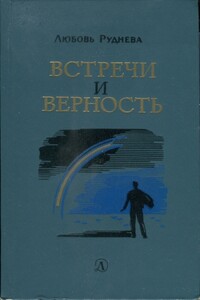— Вживаться в старые города надо ногами, они ж как корни. Не вышагаешь по мостовым, не стукнешься лбом о старые деревья, не вглядишься в глаза столетних домиков, и считай — свидания не состоялось, обручения тем более. В больших городах надо нащупывать их скрытую задумчивость, тишину.
Он очень заинтересованно отнесся к увлечению Наташи историей Русской Америки и судьбой мореходов и ученых.
— Вы феномен, хранительница очага, вечно женственный дух его и серьезный наш коллега. Я читал некоторые ваши работы, переведенные у нас, вы доказали мне, краткость — сестра таланта. В вас хорошо иметь союзника. Я, домовитый, расчетливый Дирк, потомок голландских колонистов, — шутки в сторону, — могу оценить, каким сокровищем располагает мой друг и единомышленник Андрей Шерохов.
Объяснение происходило в старом парке, близ березы. Дирк своей крупной, доброй рукой потрепал дерево «по щеке», по светлому, «как душа Наташи», сказал он, стволу.
Теперь, когда дошла весть о кончине в глубинах океана Хорена, настигли Шерохова воспоминания…
Вспомнились в своем разнотолке рыцарственные слова и поступки Дирка по отношению к нему, Андрею, и Наташе. В год интенсивной работы бок о бок с Хореном в Ламонтской геологической обсерватории Андрей, когда откатило месяцев девять пребывания там, иронизируя над собой, признался другу:
— Вдруг иссякло мое терпение, нет мочи одолеть затянувшуюся разлуку с Наташей, все-таки я по характеру не зимовщик, да и Ламонт уютнейшее, тихое научное поместье, а не льдина.
Дирк, как мог, старался отвлечь Андрея, то задавал головоломные вопросы перед самым исходом дня, а потом предлагал прогулку на маленькой яхте, чтобы на просторе их вместе разрешить. То вдруг подстерег, когда Андрей задержался в столичном концертном зале, и запер изнутри коттедж, да так, что тот вынужден был лезть в окно, а Дирк явился ему в простыне не то как античное видение, не то, как сам он себя окрестил, «пошлейший домовой». В нем таилось не прожитое им ребячество, готовность прийти на выручку почти детская. И это при том, что занят был сверх головы. Как-то он спасал друга, но Андрей все более нетерпеливо, тревожась, ожидал приезда Наташи. Он спрашивал себя: «А если вдруг в последний момент все сорвется? Если что-то приключится с ее матерью?»
Переписка затянулась, вот-вот должна была уже появиться Наташа. Но что-то задерживало ее, по телефону не все можно иногда понять. Он садился в машину, взятую напрокат, и гнал ее вдоль залива. Как мальчишка, прикрепил он у нижней кромки стекла «ее» портрет. Ну, не совсем ее, но смахивавший на Наташу пусть и не как две капли воды, по крайней мере как пять капель. «Дама в белом», портрет русской балерины работы Пикассо на скромной открыточке-репродукции, как-то шепотом договаривал Наташу. Тогда, в далеком 1923 году, та балерина была женой художника. Взгляд схож оказался с Наташиным, грустно-независимый, и будто такие же плавные руки, сложенные на груди, только одна кисть чуть выпростана. Ее, Наташина, высокая шея и небрежно заколотые на затылке волосы. Нос, лишь в профиль казавшийся прямым, ее мягко очерченный, но в то же время решительный подбородок. А одна прядка вырвалась из зачесанных назад волос и спустилась ниже лопаток.
Женщина в белом. Крепко сомкнутый рот, легкий очерк губ, на которых может быть его имя, он с запоздалым мальчишеством корил себя за влюбленность, за ночную тоску, которая захлестывала его и днем, за вымыслы и домыслы, почти ревнивые.
Подарил репродукцию «Женщины в белом» ему недавно их друг, состоявший с Наташей в многолетней переписке. Ферст давно свел близкое знакомство с Пикассо и загодя пригласил Шероховых навестить виллу на берегу океана, где на застекленной веранде поселилась синяя скульптура Пабло — мальчик, играющий на флейте.
— Вам повезло, Андрей, — острил Ферст, — что Пикассо в Париже, он точно бы усмотрел в Наташе второе «я» своей балерины, мог бы вас по-испански приревновать или изобразить ее теперь, беспощадно претворив в иную материю, пустив в глину, в чашу, на блюдо по законам своей художественной алхимии.