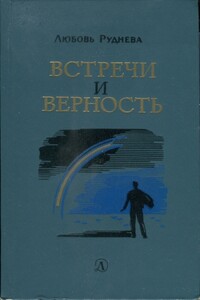Они стояли плечом к плечу на балконе, повисшем над слиянием двух рек, хоть и в центре Москвы, но все же испытывая какое-то парение над живой водой России. Дирк Хорен тихо смеялся, смех его часто вступал вместо пояснительных слов, признаний, оценок. Он впервые смотрел на устье Яузы и вслух учился называть ее, до того неведомую, и Москву-реку. Что ему, американцу, было до того, что в Москве таких высотных домов и не так уж много, может, ему тридцать два этажа вообще казались невысоким полетом, но тогда он заражался состоянием Андрея.
Хотя лаборатория Шерохова уже несколько лет находилась на верхотуре, он сам каждый раз будто и спохватывался, как повезло ему и сотрудникам ее обжить благодаря случайной аренде, нечто аистиное в самом центре города. Он-то, Андрей, считал, что принимает своего друга вполне на высоком уровне многоэтажья, выдающегося для Москвы. А тот оценил и шутки об аистах Московии, и историю петляющей Яузы, и ее дружелюбие к Москве-реке.
Дирк, проведший уже значительную часть жизни в океанах, морях, относился и к рекам как существам до некоторой степени одушевленным. О том и речь они вели, паря над слиянием двух рек.
Тут и порешили, несмотря на серьезную научную программу Хорена в Москве, обязательно съездить в Загорск — «подышать русской стариной», как сказал Дирк, но главное — добраться до Ясной Поляны. Он читал «Войну и мир» и «Анну Каренину», огорчался, что приходилось довольствоваться переводами, но испытывал потребность возвращаться по многу раз к некоторым страницам.
— Подумать только, мы все жители одного столетия! Что-то в этом есть колдовское, Толстой целое десятилетие прожил в нашем парадоксальном веке!
Вспомнилось Андрею, как Хорен толковал о Толстом. По каким-то своим приметам Дирк чувствовал — Толстой у природы не то чтоб заимствовал краски для фона, а из нее самой лепил образы, порой самую суть судьбы героев. Хорен говорил:
— Небо Аустерлица, Андрей, высокое небо над раненым Андреем Болконским — это ж масштаб, рывок духа вашего тезки, парение жизни над смертью. Не так ли? Когда я несколько раз в жизни бывал при смерти, меня спасало разное, но вот Болконского спасали простор, высота, свет неба.
Тогда Дирк и не ведал, как сам встретит смерть — в маленьком подводном аппарате, служа своей единственной страсти, соединению человека с океаном, обитанию в нем. Такова была высочайшая цена тому служению его. Говоря о Толстом, он продолжал:
— А старое дерево, то, что вдруг увидел Болконский, как неожиданно оно ожило, тут не только подсмотренное, а наверняка когда-то сам художник выбрался, выкарабкался по ветвям такого вот внезапно зацветшего старого дуба к своей весне, к своим надеждам. Будто бродило огромного растения пронизало его. Слияние хоть на какое-то мгновение, отождествление себя с тем, что обычно видится только извне. Не знаю, Андрей, достаточно ли ясно передаю вам то, что для меня так важно. Я не поклонник различных потребителей искусства, которые относятся к нему как к десерту или виньетке, а в лучшем случае как к тренажеру для проигрывания психологических ситуаций. Радуют меня совпадения в его и моем отношении к миру живых существ, хотя вроде б развитием своим они и отдалены от нас. Меня интересует и дом его, и стол, и кресло в Ясной Поляне, но, признаюсь, более всего те тропы, где бродил он, те деревья, к которым ходил он на свидания…
…Андрей конечно же предпочел бы вот сейчас увидеть Дирка, но в этот момент он рассматривал дело рук его — физиографическую карту Индийского океана. Работал над нею Хорен вместе со своей единомышленницей и подругой Энн Вуд, и Андрей листал книгу «Облик глубин», давнюю, но жгуче интересную и по сей день. С первых же строк и фотографий она внушала доверие и требовала его. У Дирка зрение обладало свойствами осязания, а в монографии он как бы учил читателя-зрителя соприкасаться вживе с населением дна океана.