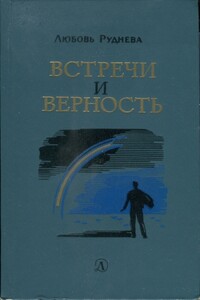В самый отчаянный день, в бессонную ночь, когда воспоминания не просто обступают, но силятся отстоять непоправимо утраченное, начинает вертеться, как белка в колесе, частушка-другая, услышанная Славой еще в детстве.
Может, и в скуповатом на всякие нежности Архангельске все же была-жила своя, то есть его, Славы, добрая старушенция, не называть же ее феюшкой, которая навевала вокруг оттопыренных мальчишеских ушей притчи, напевки разные про всякий опасный случай, впрок его снаряжала. Кому-кому, как не ей, ведомо было, какие жестокости будет выталкивать жизнь супротив него хотя бы лишь из-за распахнутой его натуры…
Только в полудреме снова приглянулось ему лицо Нины, как и два года назад, приманивал голос ее, вновь поверил он в искреннее отношение, но зачастила над его изголовьем незнакомая женщина-песельница свои частушки, словно подкидывая опровержение обманной дреме:
До чего ж любила слушать
Пароходные свистки;
Не нашла я в жизни счастья,
Кроме горя и тоски.
Вроде б и незамысловатая жалоба частушечная, но искала та певунья то ли сочувствия, то ли разделенной с нею тоски, и уж в том светилась надежда.
В частушку вплеталось все-таки, вопреки обиде и потере, ожидание, была в ней особая приметливость, тяга к раздолью.
Измочаленный нелепыми вымыслами Нины, ее оголенной грубостью, в полусне Слава, будто с какого-то пригорка над Онегой, следил за парящим голосом чужим, а все-таки оттуда раздававшимся, из глубинок детства.
Вот долетел обрывочек удаляющегося напева, вроде б заречный ветер донес его до Славы:
Моя молодость проходит,
Как в трубе зеленый дым…
Он приподнялся на локте, взглянул на заваленное безлунной теменью окно и снова опустился на постель, лег на спину и сразу же, опять в полусне, вернулся, убыстрив ритм своего частушечного хода, не то жалующийся, не то недоверчивый к своей же тоске-отчаянью голос. Слава хватался за него, как за соломинку в детских снах, куда-то хотел выплыть за ним.
Дайте ходу пароходу,
Распустите паруса,
Пролетела моя молодость,
Увяла краса.
Ах, вот что оно?! Он вел разговор, кажется, и сам отвечал своей переборкой, перестуком каблучным слов-находочек.
С кем-то все же делил напасть, обтерханный изнутри, все же искал пусть и шуточной, но с тоской, малой исповеди под ветерок, над широкой Онегой-рекой. Ведь и частушка может быть прибежищем, если она из души в душу, будто и не сполна выговаривает, упрощает беду, а все же парусит над бытом, чадом, болотом. Будто помогает избавиться от шипов-заноз.
Чего перебирать, думал, уже окончательно выплыв из сна, Слава, зачем перебирать, как обмануты не то чтоб надежды, — самые, казалось бы, полновесные месяцы, годы его жизни, где он, как к главному в себе самом, все нес Нине? А там-то жило иное существо, обманное, с характером счетовода по призванию, с вульгарным душком и умением выгрываться в заданное положение…
Как же удивлялся сам когда-то, действительно теперь уже казалось, все происходило давным-давно, как же диву давался Слава, видя мытарства Глеба Урванцева с его пошлейшей бывшей женой. Мало того — и не признаваясь себе, исподволь, невольно судил Глеба за его былую юношескую недальновидность, за неизбирательность, что ли… А теперь как судить себя? Ведь Глеб ринулся к той Ксении от усталости, от лагерного обездоленного детства, из-за сиротства своего, от любви к брату Ксении, талантливому, но подкошенному тяжелым недугом, видимо, парню примечательному!