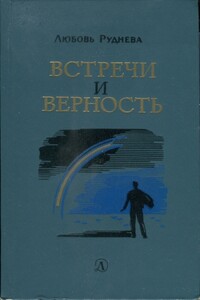Долго перебирал письма сына, присланные из разных портов, а то и с оказией. Разворачивал, читал:
«Считай, дорогой отец, мои письма листками из дневника.
Ты-то сам вырос у моря. Пойми, когда отваливаешь от стенки и видишь уходящий, движущийся берег, удивляешься. Он как будто и отталкивает тебя, и между нами все увеличивается и увеличивается пространство, уже новое, будто и неведомое. А среди книг на судне главной становится «лоция», на этот раз, кроме «Лоции берегов Японского моря» и «Лоции Австралии», особенно влечет меня «Океания», «Новая Гвинея».
«Это было перед «Маклаевским рейсом», — счастливо улыбаясь, припоминал Михаил Федорович.
Но ту передачу смотрел и Ховра, крепко сбитый, удачливый директор Выдринского института, с короткой стрижкой, волевым подбородком, грудью спортсмена и пристальным, «выработанным» взглядом узких светлых глаз.
Вкруг него уселись подростки-дети, «моя образцовая семья», как любил он говаривать на людях.
— Папа, так это ж убийца Семыкина, как сейчас припоминаю его лицо, ты ж показывал фотографии нам. Ты говорил: его еще снимали и перед последним рейсом, как сейчас помню, — захлебываясь частила, тряся челочкой, юная Софочка.
Но, увидев, как бонгуанцы с копьями и луками, с отведенной тетивой насунулись на капитана, она взвизгнула:
— Ну, его сейчас и проткнут!
И ответствовал ей солидно и весомо, подыгрывая отцу, братец ее Сима:
— Дура горькая, так это ж документ. Если б намечалось убийство, его бы ни в жисть нам не показали!
Но сам Ховра откинулся всем корпусом на спинку мягкого кресла и безмолвствовал, он онемел от негодования.
Был он вне себя от идеологического проступка телевизионщиков. Как? Пускать на экран такую персону? Да и не персону вовсе! Этого капитана, из-за которого безукоризненная репутация института и самого Ховры могла быть поставлена под сомнение?! И вдруг реклама, как раз тогда, когда Ховра свое доказал, но при том истратил самое ценное — кучу времени. Теперь над капитаном не властны копья дикарей, их стрелы, он уже и так загарпунен. Не ходить ему более в научном флоте, а там, глядишь, и заработает все же уголовное клейменье, определенную статью за преступную халатность как минимум. А то и по более солидному счету чего схлопочет. Ховра вооружился блокнотом с фирменными позывными своего довольно-таки крупного офиса. Он запишет, кто авторы и кто редакторы передачи, он свое с них спросит и на них кое-чего испросит. Крутят старый фильмик, где капитан этот, видите ли, смотрит в миллионы глаз герой героем. Идет эдак с обнаженной шеей, с голым ногами прямо на вооруженных дикарей. Стоп. Советскому ученому так негоже называть бонгуанцев.
А может, у него, у Ветлина, все в порядочке, если вертят эту штуковину на экране?!
Но Софочка и Симочка, дети Ховры, в восторге от папуасов, фильм-то весь в цвете! Они теперь без ума и от хладнокровного бледнолицего.
Правда «фазе», «отец», — в доме принято легкое обращение с английским, — очень недоволен.
— Будем жаловаться, — твердит он.
А на экране меж тем рифовые атоллы и крупным планом еще раз капитан и залив Астролябия. Бухта Константина.
Путь совсем недолгий до Бонгу. Сперва роща кокосовых пальм, потом открытое пространство, дорожка через него, заросшее высокой травой унан, с двух сторон желто-зеленые холмы, за ними горы сплошь в облаках. Справа внизу сквозь заросли просвечивает океан.
Опять во весь кадр капитан Ветлин. Его лицо, веселая фигура в красной рубашке. И голос за кадром:
«Наш капитан Василий Михайлович Ветлин делится своими трудностями только в самых редких случаях. Но в его каюте постоянно решаются самые жизненно важные для рейса проблемы».
Ховра вскакивает на свои отлично тренированные в теннисе ноги и пружинит ими даже сейчас, приняв отчетливо вертикальное положение. Он слегка прогибает спину для разминки.
— Ну, это уж слишком. Он никакой уже не капитан научного флота. С этим-то все!
Ховра сделал повелительный жест, что-то решительно отсек, приняв себя в этот момент явно за некоего вершителя судеб человеческих. Он продолжал, ярясь, шельмовать Ветлина вслух, дети с испугом озирались на отца.