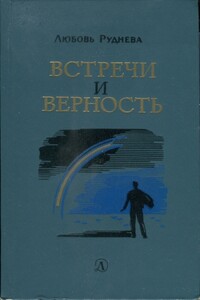В период стоянки в иностранных портах перекладывал организацию службы на младших помощников и помполита. Проявлял излишний интерес ко всяким устройствам иностранных исследовательских судов, поэтому оказывался с глазу на глаз с иностранными судоводителями, механиками и прочими, что в общем не рекомендуется и также является отрицательным образчиком поведения для молодых судоводителей».
— Вы ведь, товарищ Прысков, опытный юрист, поймите, в какое противоречие тут впадает автор этого опуса. Все, что как раз и говорит об уважении капитана к своим штурманам, о его мастерстве судоводителя, а оно делает нам честь и в глазах его иностранных коллег, — все, что свидетельствует о смелости капитана, его любознательности, инспектор старается дискредитировать.
А Ветлин вовсе не случайно и меня, архитектора-конструктора, не однажды успешно консультировал.
Прысков встал, поправил галстук, прошелся гребенкой по тщательно зачесанным назад черным блестящим волосам и прервал Большакова:
— Вы же не полностью уяснили свои права, — не пытайтесь в период следствия вести со мною споры, оказывать давление. Так не пойдет. Да сейчас и время подпирает. Поставим пока на этом точку. Ну, а все изложенное вами письменно и ваши свидетельские показания о том, что и как говорил вам и доктору Ювалову пострадавший Семыкин, учту. Но учту и то, как вы злоупотребляли положением Семыкина, находившегося в возбужденном состоянии под влиянием чистого спирта, который вы же ему давали в больших количествах после спасения, и, замечу, он обоснованно считает, не совсем бескорыстно. На этом пока. — Прысков подал свою энергичную руку Большакову.
Выходя из осанистого, хотя и крупноблочного, дома, где свидание с Прысковым длилось не долго не коротко, Слава, застегивая повидавшую виды, на рыбьем искусственном меху куртку, усмехнулся. В ближайшем автомате он набрал номер Ветлина. Услыхав его негромкий голос — капитан и на судне никогда не повышал его, — спросил:
— Можно мне, Василий Михайлович, к вам? Не будем соблюдать глупые предосторожности, все едино нас обнесут. Ох, и неохота мне, уже вырвавшись из тягомотно присутственного места, еще что-то взвешивать и прикидывать, где да как поразбросали толченое-перетолченое стекло. Да вспомнилось отцом просеянное, удивительное присловье. Сызмальства и запало оно: «Днем и ночью двигались по зыбям, трясовинам, по горам, по водам, по мхам зыбучим и лесам дремучим. Оставалась малая тропочка…»
Он услыхал после коротенькой паузы в ответ:
— Жду вас, Слава, только будем вместе чаи пить, заниматься вашим новым проектом подводной научной лодочки, чтоб забыть о плоскодонке. Да, остальное сегодня вечером побоку. Жду…
Когда Слава уже выходил от Ветлина, тот в прихожей как бы повинился:
— Сколько ж дел вы из-за меня потеснили в Москве. Вот и Урванцев написал мне, что ворох материалов послал вам даже в Выдринск. Совмещать тут проектирование с хождением по нечистым водам не фунт изюма. И вас наверняка уже заждалась в Москве Нина. А она, показалось мне, терпением не отличается. Да это и естественно. Я чувствую себя кругом в должниках. Я невольно лишаю вас радости… Задержались-то вы тут надолго…
Большаков дотронулся до руки капитана, прервав его на полуслове:
— Все же естественно, беда у нас общая, а не только ваша. Как иначе? Не разъединяться же в такую пору. Если б только от меня больше проку выходило, но я рад и тому, что хоть вижу и слышу вас, знаю, каково вам, да что говорить, Василий Михайлович. Мне вот Урванцев так и написал: мол, завидую вам. Ему неспокойно, он-то издалека следит за ходом нашего дела. Ну конечно, меня домой нет-нет и тянет, но, может, такой час подошел, когда все до конца и там само выверится.
Слава, притулясь к входным дверям, ерошил свои светлые, тонкие волосы, чуть и мотал головой. Сейчас сильно походил он, как заметил Ветлин, на недоуменного подростка, только вот вымахал высоконьким.
— Многовато скверности навалилось на нас, Василий Михайлович, но обязательно мы выдюжим, — сказал он, глядя в глаза Ветлина. — Почему-то помимо моей воли бродит еще грустная, неуверенная в себе мыслишка, и вправду что-то определится дома…