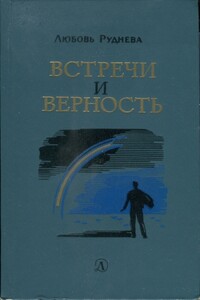И по тому, как он, обычно безукоризненно вежливый, вдруг обратился к Ветлину не по имени-отчеству, а так, вроде б по должности, было первым, но явным сигналом — он менял позицию, провел пусть и невидимую, но черту между собою и Ветлиным.
Он и вышел из рубки поспешно, будто убоялся, как бы капитан не стал его удерживать или что-то уточнять на будущее.
Ветлина уже ничего не удивляло, знал по опыту: океан, если заиграет чьи-то жизни, не больно церемонится, заодно стаскивает с иных сущих самые невероятные личины и обнажает внезапно подразумеваемое давно. Слупский, видимо, и не тревожился за судьбу попавших в беду, он уже взвешивал последствия случившегося, ведя, как всегда, наверняка отсчет от себя, чем ему грозит эта история даже в самом щадящем варианте. Он наверняка хотел оставаться в непричастных.
Но обо всем касательно Слупского капитан подумал мимолетно: какая-то иная мысль владела его сознанием.
«Если, — думал он, — если удалось подобрать Веригина, возможно еще чудо: в фантастическом стоге найти и другую иголку. Быть может, биологи поддержат друг друга, Семыкин не оставит Юрченко в беде, они, возможно, оба держатся за доску, за бачок».
Он перебирал до мелочей все исходы и случайности, дающие шанс на спасение тех двоих, даже на расстоянии, как бы убеждая Семыкина не покидать своего руководителя. Ну хотя бы потому, что Юрченко-то и плавать не умел.
В часы поисков, долгих, как полярные бессолнечные сутки, владея собой, не подавая виду окружающим, как он встревожен и какими безнадежными могут оказаться эти розыски в разгулявшихся волнах, Ветлин выбросил из головы все мельтешение тех трех на переходе, их промахи, амбицию. Жалел их, страшился за их участь, хотя где-то и простукивались упреждающие позывные, во что отольется дикое легкомыслие вполне зрелых людей начальнику экспедиции, а возможно, и ему, капитану. И хотя знал, он-то наверняка все делает на совесть, но именно потому догадывался, руководство Выдринского института, откуда были эти трое, повинное в первую голову, и захочет сечь невинные. Но все эти промелькнувшие как бы стороной мысли в часы поисков представлялись ему малосущественными.
Меж тем никто, даже женщины, не уходил с палубы. Слезились глаза, лица припухли от секущего ветра, от непрерывного напряженного вглядывания в завихрение волн, полосами освещаемых прожекторами. Глаза покраснели, веки набухли. Многие продрогли в своих плащах, не спасали женщин и платочки, но каждый представлял себя в таком вот непредставимом вроде б положении, как те, с опрокинутой волнами лодки, и к пронзительной тревоге прибавлялся ужас приближения к собственной гибели. И не просто к уходу из жизни, а еще возможным страданиям стылого одиночества, обессиливающего в волнах.
В одиннадцать вечера Слава Большаков, только что поднявшийся на мостик к Ветлину, быть может, оттого, что глаза его отдохнули и он хоть на время отвлекся от поиска, первым приметил под скользнувшим лучом прожектора отблеск от очков — это было обернутое к судну лицо человека, уцепившегося за бачок.
Слава схватил Ветлина за локоть и увидел — вновь мелькнул в волнах человек. В это же время подали голос двое наблюдателей — моряков. Они доложили в мегафон: «Человек за бортом!»
Все на палубе закричали, замахали нелепо руками, но уже прозвучала команда Ветлина: «Шлюпку на воду».
Вдруг Слава поддался внезапному страху: а что, если утопающего в последнюю минуту затянет под судно? Хотя опять все уложилось в несколько минут: спуск шлюпки с матросами и старпомом, короткая ее пляска в штормовых волнах, быстрые движения тех, кто ухватили спасаемого за плечи, руки. Нелепые его, судорожные движения в момент, когда втаскивали в шлюпку.
И вот уже подъем самой шлюпки, короткие команды капитана. Вслед за ним Большаков сбежал по трапу на шлюпочную палубу и как раз там и очутился, когда вытаскивали Семыкина, в последний момент потерявшего сознание.
Почудилось Славе, вроде б на миг у всех наступило облегчение — двое уже спасены, выхвачены из океана, ночной круговерти, казалось бы, полной безнадеги.
Но Большаков, как тут же счел он, погрешил против совести, невольно подумав: более всех ему с самого начала поиска жаль было Юрченко. И отчего так, он не смог бы ответить подробно ни себе, ни кому другому. Может, и оттого, что по обрывистым, смутным словам Веригина полагал: самый беспомощный из троих именно Юрченко, не спортивный, не пловец, уступчивый во всем нахрапистому Семыкину.