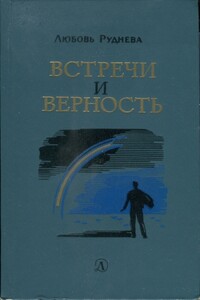Врач вышел, оставив дежурить в изоляторе свободного от судовых дел Большакова.
Лежа на койке, Семыкин потягивался, прижмуривался и требовал еще «шнапса». Он уже отоспался после того, как его крепко-накрепко растерли, напоили чистым спиртом, и вновь канючил:
— Отходную, што ли, давай-давай! Судно-то ведь отшлепало от проклятущих островов, где наверняка гнездятся ведьмаки.
Уснащал он свою речь витиеватыми ругательствами, себя при том живописал словесами жалостливыми.
— Собой жертвовал. Сам чуть не сгиб, а для ча?! — Он, видимо, возвращался к словечкам и оборотцам, привычным ему сызмальства. — Для ча, спрашивается?! Все едино Юрченке так ли, сяк ли была б хана́! Заведомо! Он же плошак. Неспортивный и по-собачьи плавать не умел, аж испугался до дурости.
Слава лишь иногда взглядывал на Семыкина, сидя у стола Ювалова, на котором лежала странная бумажка.
Утром, едва проснувшись, Семыкин потребовал у Ювалова бумагу, ручку и папку, чтоб «опереть», как выразился он, бумагу, и написал крупными каллиграфическими буковками: «Заявление на…», но утомился и отложил свой труд на более подходящее время.
— А знаешь, ты чертежник, — так и раньше пробовал Семыкин зубоскалить в адрес Славы.
Но тогда, на переходе, Большаков его обрывал. Теперь же промолчал он.
— Меня вот кореши прозывают «Запорожец за Амуром». Бравый я, сильно бравый, а кто сильнее, тот правее, нынче я тому нашел в самом океане подтверждение. Счастливчик я.
Ему хотелось, оставаясь один на один, пусть и со случайным для него слушателем, хоть какого-нибудь куражу, может, и малого, но чувствовал оттого, как играет в нем, живом, каждая жилочка…
Он же, торжествуя, пояснял себе же свои хотенья, требовал непрестанного внимания, даже сплевывая, крякал от удовольствия и приговаривал:
— А все ж таки живуч, сукин кот! Посрамил океан и нахожусь при отправлении своих главных обязанностей.
Оставался он, как сам утверждал, верным и после пережитого потрясения собственному «железному стилю». И небрежно отзывался о тех, кто выловил его персону, как клецку из кипящего котла.
— Не находишь, чертежник, — я мыслю образно, а значит, существую. А Юрченко рохля, уступчивый, плошак!
Он уже и Ювалову наговорил много лишнего, но пока еще в том не спохватился.
Под утро, проспавшись, подозрительно спросил у Ювалова:
— Не подогревали ли вы меня искусственно? Чтобы из мутного моего сознания, — а я сильно претерпел, — кое-что и выудить в капитанскую пользу? А? Да ну вас, без свидетелей и фиксации все требуха, не так ли, крупномасштабный эскулапчик?
Едва появился в изоляторе Большаков, развалясь на койке, выставив вперед свой скошенный подбородок, Семыкин обрушил на него град упреков, с издевкой заговорил о капитане.
— Он, и только он, повинен в том, что Юрченко нет в живых. И доказать такое просто, как дважды два. Только то арифметическое действие, а тут навзничь опрокинулось трое человек, и один оказался в полном прогаре.
Слава пытался урезонить прокуратора, наконец спросил:
— А вы не боитесь, что напраслина, если будете на ней настаивать, обернется против вас самого, поклепщика?
Но тот круто оборвал:
— Чего ты мне байки о Ветлине тянешь? Его, говоришь, в сорок третьем в конвое громили гитлеровцы? А я, считай, только свеженький народился. Он-то, получается, мне предок, понимай — свое уже взял от жизни, можно с ним и не цацкаться.
А потом семыкинские ровные строки уложились в рамочки жестяно-бюрократических формул.
Он отлежался, выспался, отъелся всласть и принялся выводить их.
«Несчастный случай произошел как следствие ряда причин и последовательных событий».
Характер пишущего отпечатывался в оборотах:
«Вначале отказал мотор, и все известные мне приемы запустить его ни к чему не привели. Ветер и волнение были сильные, мы дрейфовали в сторону открытого моря. Гребля на веслах существенного результата не давала».
Он и словом не обмолвился, что вблизи работал судовой промерный катер и ничего не стоило связаться с ним.
И как сболтнул он спьяну, сразу после спасения, Юрченко-то заикнулся было: хорошо б их отбуксировал катер к судну, а там уж можно повиниться за самочинный выход из лагуны. Но Семыкин тогда, в океане, и прикрикнул на «рохлю и слабака», как сам он выражался, живописуя страшноватые подробности и срамя погибшего.