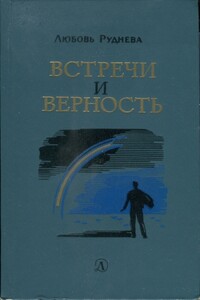Мы зашли в ресторан, и когда уже заказали себе шашлыки и кофе, Амо спросил у меня разрешения прийти на ближайший ученый совет института, где я должен был обосновать план своего рейса на Китовый хребет с вероятным заходом на остров Святой Елены.
— Вот, кстати, вы опять будете хоть и на ученом совете, но, кажется, уже в привычной для вас роли тоже святого, святого Себастьяна. Начнут в вас пускать стрелы — вопросики с ядовитой начинкой ваш Эрик и академик Атъясов, превращенный Слупским, как я понял, на старости лет в почти безропотного Пятницу.
Гибаров провел рукой по скатерти, будто смахивая некую проекцию пренеприятной картины…
— Кстати, после занятий в церкви, примерно так через полгодика, представьте, стал я интересоваться житийной литературой и придумал книжку с миниатюрами, уж и не знаю, кто их выполнит, вдруг Ярослава захочет, — о житии моего учителя, клоуна Эрга, я ж вам рассказывал о его невероятной жизни. О житии Жана-Луи Барро… Может быть, у меня хватит духу признаться вам, если я еще продержусь на манеже и сцене лет пятнадцать, вправе буду написать о хождениях по мукам, о житии Амо Гибарова, русского с армянскими вкраплениями клоуна-мима!
Он оборвал себя на полуслове, принялся подробно выспрашивать, какие надежды связываю я с экспедицией к подводному хребту Китовому.
— Я знаю, вы не любите заранее обговаривать, какие ожидания гонят вас в Атлантику, Тихий или Индийский. Но я-то теперь под руководством ваших противников «сориентирован», — кстати, любимейшее словечко Слупского. Вы пойдете терпеливо брать пробы, доставать свои многотонные трубки-породы с океанского дна. Чем глубже вгрызаетесь, тем лучше. И у вас есть, как и у меня, ритм работ, и при всем кажущемся однообразии их они постепенно становятся красноречивыми. И вы, вы ждете еще и еще доказательств неоднородности строения дна океана, вы хотите, чтобы вашу любимейшую раньше, в шестидесятые годы, теорию движущихся плит теперь не считали универсальной, а еще вы хотите, чтобы однолинейные ответы не перекрывали многообразия происходящих процессов, и…
Ему нравилось как бы сдавать мне экзамен, он перечитал за время нашей дружбы самые разные статьи и теперь увлеченно в моем кабинете подолгу разглядывал карты будущих моих полигонов, уже не говоря о всякой литературе, связанной с местами наших предполагаемых заходов.
Но мне-то хотелось, чтобы Амо вернулся на круги своя. Все, что думал он, вспоминал о себе, меня захватывало. Он принадлежал к редчайшей породе одержимых, его артистизм сквозил во всем, и в том, как и о чем он вспоминал, как монтировал у меня на глазах эти самые наплывающие на него, а значит, и на меня свои воспоминания. Я остро ощущал их живучесть, они имели самое непосредственное отношение к поискам, находкам, переменам в сегодняшней судьбе Гибарова.
У меня возникала уже потребность слушать Амо, тем более он так часто, не скупясь, вталкивал меня и в свой зрительный, образный ряд, в превращения, как он правильно догадывался, не чуждые мне, хотя в моей жизни носили они вовсе иной характер.
— Что б вы подумали, если б, проходя по улице, увидали афишу, по которой бежало б ультрамариновым курсивом: «Автобиография», а под заголовком буковками поменьше шло б пояснение: «Спектакль-пантомима в двух отделениях»?
Амо на скатерти, отодвинув свою тарелку, быстро сминая смуглыми пальцами мякиш черного хлеба, разбросал три фигурки покрупнее, а одну совсем маленькую. Потом перемещал их, поднимал в воздух.
— Смотрите, — говорил он о том, что придумалось ему и виделось будто воочью, — хлипкий паренек и трое верзил. На сцене они еще сильно раздались, выставив углами локти. Они теснят Амо, наступая с трех сторон, им охота сыграть в футбол, приспособив его как мяч. Он озирается и, когда один протягивает к нему ручищи, внезапно приседает. На их рожах недоумение: зачем маленький пацан делает себя и того меньше, ведь ему и так отпущено немноговато материи мачехой природой? Примерно так, толчками, двигаются их короткие мысли, и невооруженным взглядом зритель улавливает все на их рожах.
Они выхваляются, принимая разные позы друг перед другом. Козырьком прикрывают глаза от света, хотя сцену освещает вовсе неярко свет фонарей, глядят из-под ладони вдаль, скособочась. Но вот кривоногий верзила хватает Амо, перекидывает другому, с огромным подбородком, а тот зашвыривает его так, что он повисает на водосточной трубе, торчащей на остатках какого-то забора.