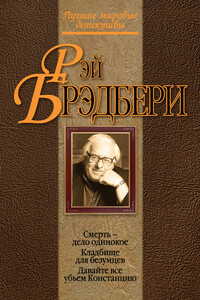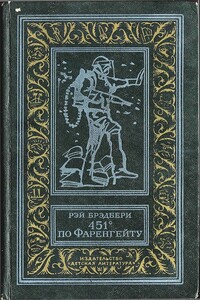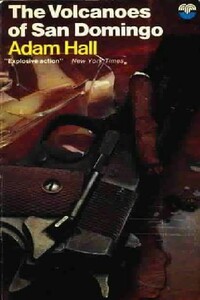– Кто, Генри?
– Ну этот! Сукин сын! Поставил мне подножку, мерзавец.
– Он что, сказал что-нибудь? Откуда ты знаешь, что он был здесь?
– Откуда, откуда! Откуда я знаю, что в холле горит свет? Чую. Тепло чую. Там, где он стоял в коридоре, прямо жарко было. А потом, он же дышал! Я слышал, как он тихо так, осторожно втягивал в себя воздух и выдыхал. Он ни слова не сказал, когда я проходил мимо него, но я-то слышал, как у него сердце бьется – бух, бух. А может, это мое так бухало. Я-то думал, проскочу мимо него так, что он меня не заметит. Ведь мы – слепые – как рассуждаем? Раз я в темноте, так, поди, и другие тоже. И вдруг – бух! И я под лестницей и понять не могу, как я там очутился. Я давай звать Джимми, Сэма и Пьетро и вдруг вспомнил: идиот, они же все умерли, и ты, дурак, помрешь, если не крикнешь кого другого. Ну и стал орать подряд все имена без разбору. Двери захлопали, чуть с петель не сорвались, тут он и выскочил. Вроде он даже босой был, так тихо скакнул. Но я учуял, как пахло у него изо рта.
У меня перехватило дыхание, и я оперся о дверь.
– Ну и чем от него несло?
– Надо подумать. Потом скажу. А сейчас Генри лучше прилечь. Черт! Я даже рад, что слепой. Не хотел бы видеть, как я валюсь с лестницы, будто мешок с грязным бельем. Ну, пока.
– Спокойной ночи, Генри, – сказал я.
Я повернулся, но в тот же момент и дом, как огромный пароход, сделал поворот против речного ветра в темноте. Мне померещилось, что я опять в час ночи сижу в кинотеатре мистера Формтеня, а под сиденьями пол ходит ходуном, оттого что прилив чмокает, хлюпает и сотрясает половицы, а по экрану скользят большие серебристо-черные тени. Дом опять содрогнулся. Кинотеатр все-таки другое дело. А здесь, в этом огромном, старом, плохо освещенном здании, тени, сбежав с экрана, таились у лестничных пролетов, прятались в ванных, вывинчивали по ночам лампочки, чтобы всем приходилось, как слепому Генри, искать выход на улицу ощупью.
Пришлось двигаться на ощупь и мне. На верхней площадке я замер. Кто-то дышал, и воздух передо мной колебался. Но оказалось, что это всего лишь эхо моих же вдохов и выдохов: отражаясь от стен, оно возвращалось ко мне и касалось моего лица.
«Ради Христа, – внушал я себе, – не оступись, сбегая вниз».
Когда я вышел от Фанни, лимузин выпуска 1928 года с шофером ждал меня. Дверца захлопнулась, мы помчались к Венеции, и на полдороге сидевший впереди водитель снял кепи, распустил волосы и превратился…
… в Констанцию Раттиган – следователя, ведущего допрос.
– Ну? – спросила Констанция холодно. – Очень она встревожена?
– Не то слово! Только встревожил ее не я.
– Да?
– Да! Черт побери! Остановитесь вон там и высадите меня на ближайшем углу к чертовой матери!
– Ну, ну, мистер Хемингуэй! Для робкого мальчика из Северного Иллинойса выражаетесь вы лихо!
– А подите вы, мисс Раттиган…
Это возымело действие. Плечи ее слегка обмякли. Она поняла, что может потерять меня, если не будет поосмотрительней.
– Констанция, – уже спокойнее поправила она.
– Констанция, – повторил я. – Не моя вина, что кто-то утонул в ванне, кто-то перепил, кто-то свалился с лестницы, а кого-то забрала полиция. Почему вы-то сами не поднялись к Фанни прямо сейчас? Вы же ее старый закадычный друг!
– Я боялась – вдруг, если она увидит нас вместе, ее кондрашка хватит и мы не сможем ввести ее в рамки.
Констанция сбавила скорость с довольно-таки истерической – семьдесят миль в час до менее нервозной – шестидесяти или шестидесяти двух. Но ее пальцы, как когти, впивались в руль, будто она воображала, что это мои плечи, и собиралась как следует тряхануть меня.
– Лучше бы вам, – сказал я, – увезти ее оттуда раз и навсегда. Сейчас она неделю спать не будет, а это ее доконает, она не выдержит изнеможения. И нельзя же все время питаться одним майонезом!
Лимузин замедлил бег до пятидесяти пяти миль в час.
– Здорово тебе от нее досталось?
– Да нет, просто, как и вы, она обозвала меня Прислужником Смерти. Видно, я для всех козел отпущения, просто какой-то разносчик чумных блох! Что бы там ни творилось в доме Фанни – а что-то творится, это факт, – я тут ни при чем. И плюс ко всему Фанни сама выкинула какую-то глупость.