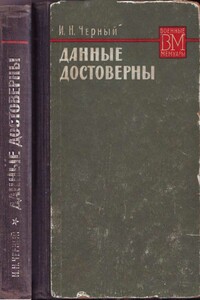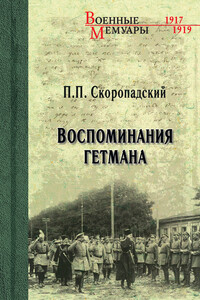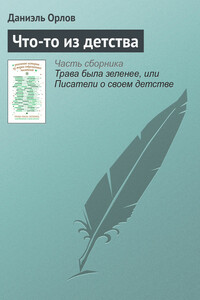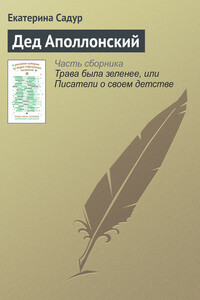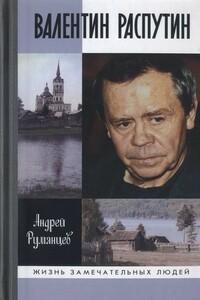— Поезжай, товарищ Драгунский. Мы доверяем тебе, — напутствовал меня секретарь райкома.
На другой день я отправился в путь, в деревню Ахматово, Молоковского района, Калининской области, лежащую в пятидесяти километрах от ближайшей железнодорожной станции Красный Холм.
Многие мои ровесники, наверное, помнят, какие это были тяжелые годы, особенно в деревне, как слабы и немощны были только что организованные колхозы.
И все же настал радостный день — 7 мая 1931 года, когда крестьяне деревни Ахматово начали посевную.
Через год меня выбрали секретарем партийной организации, в которую входили коммунисты шестнадцати окрестных деревень. Большая ответственность легла на мои плечи. А мне было тогда только двадцать два года.
Зимою тридцать третьего года я был призван в Красную Армию. Поскольку я закончил среднюю школу, предстояло служить только год. Таков был в те времена закон.
Я был уверен, что, когда отслужу, передо мною распахнутся двери Московского университета или института, который облюбую. В армии я числился в передовых, и командиры охотно дали бы хорошую характеристику. Но судьба сложилась иначе.
Летом наша часть стояла в лагере под Минском, в Красном Урочище, на том месте, где теперь находится Минский автомобильный завод. Утром — мы еще не успели закончить упражнение по физкультуре — прибежал запыхавшийся солдат и выпалил одним духом:
— Раз-два, и не задерживаться ни на минуту! Командир четвертого стрелкового полка Бобков приказал, чтобы ты немедля явился к нему!
В домике у Бобкова находился комиссар полка Медведев. При моем появлении он поднялся и сразу обратился ко мне:
— Мы хорошо знаем вас. Знаем, что вы были добросовестным рабочим, что справились с заданием в деревне. А потому решили послать вас учиться в Саратовскую бронетанковую школу.
В первую минуту я не совсем понял, о чем идет речь: всеми своими мыслями находился уже в Москве. И почему вдруг встал вопрос о бронетанковой школе? Но, как всегда в трудный момент, я вспомнил слова матери: «Не бойся трудностей. И никогда не пытайся переложить свое бремя на плечи других». Сразу все встало на свои места.
Помолчав с минуту, я бодро выпалил:
— Когда надо ехать?
Комиссар, сидевший рядом с командиром, глянул на него.
— Завтра, — как-то просто, по-отечески ответил комиссар и, заглянув в бумаги, лежавшие на столе, добавил: — Поедете не один. Я назначаю вас парторгом. Вы повезете в училище сто человек. Перед выездом получите все необходимые документы. Желаю успеха.
На следующий день будущие курсанты сели в поезд Минск — Саратов, который доставил нас в военную школу, ставшую затем для каждого вторым домом.
Три года, с 1933 по 1936, мы день за днем знали лишь танкодром, машины, полигон, лабораторию, классы. Свободного времени было мало. С мечтой стать литераторам было покончено.
Седьмого ноября 1936 года в актовом зале Саратовской бронетанковой школы состоялся первый выпуск питомцев. Сто молодых лейтенантов-танкистов застыли в торжественном ожидании. Начальник училища полковник Шипов зачитал приказ Народного Комиссара обороны СССР Климента Ефремовича Ворошилова. Мы знали, что курсантам, закончившим училище по первому разряду, представлялась возможность выбора места дальнейшей службы. Более сорока человек оказались такими счастливчиками. К их числу относился и я. Мы с особым нетерпением ждали распределения, ибо каждый заранее наметил что-то конкретное. Я, например, видел себя в танковой бригаде имени Кастуся Калиновского. И вдруг услышал: «Лейтенант Драгунский Давид Абрамович направляется командиром танкового взвода в Дальневосточный военный округ».
После команды «Вольно!» выпускники окружили комиссара училища Муркина и засыпали его вопросами.
Комиссар понял озабоченность выпускников, ибо мудро предвидел, что такая новость нас очень удивит.
— Таков, ребята, приказ наркома обороны. Лучших курсантов не случайно направляют на Дальний Восток. Там пахнет порохом…
В новогоднюю ночь я и четверо моих товарищей — Володя Беляков, Андрей Барабанов, Вячеслав Винокуров, Павел Жмуров высадились на глухой дальневосточной станции.