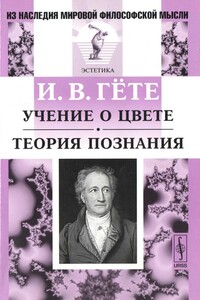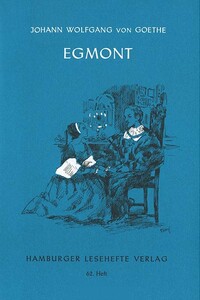А посему надо ли удивляться, что, размышляя о своем состоянии и придумывая, как из него выбраться, он приходил в сильнейшее замешательство. Мало того что ради дружбы к Лаэрту, ради влечения к Филине и сострадания к Миньоне он дольше, чем следовало, задержался в таком месте и в таком обществе, где мог потворствовать своей излюбленной склонности, словно бы украдкой утоляя свои желания, и, не ставя перед собой определенной цели, лелеять свои давнишние мечты; он считал, что найдет в себе силы вырваться из этих обстоятельств и уехать без промедления. Но ведь только что он пустился в денежную аферу с Мелиной, познакомился с загадочным стариком, чью тайну страстно жаждал разгадать. Однако, поразмыслив так и эдак, он решился, или полагал, что решился, всем этим пренебречь.
— Я должен уехать! Я хочу уехать! — восклицал он. Полон смятения, бросился он в кресло. Вошла Миньона и спросила, нужно ли завить ему букли. Она была очень тиха: ее глубоко уязвило то, как он нынче резко спровадил ее.
Ничего нет трогательнее той любви, что взрастала в тиши, той преданности, что крепла втихомолку, — когда в урочный час она наконец проявляет себя и становится очевидна тому, кто дотоле не был ее достоин. Расцвел долго и плотно закрытый бутон, а сердце Вильгельма было как нельзя более отзывчиво в этот миг.
Она стояла перед ним и видела его тревогу.
— Господин мой, что станется с Миньоной, если ты несчастлив? — воскликнула она.
— Милое дитя, — промолвил он, взяв ее руки, — ты тоже одно из больных моих мест. Мне должно уехать.
Она заглянула ему в глаза, блестевшие от сдерживаемых слез, и порывисто опустилась перед ним на колени. Он не выпускал ее рук, а она прильнула головой к его коленям и затихла. Он ласково перебирал ее кудри. Она долго не шевелилась. Вдруг он почувствовал, что она дрожит, — сперва чуть заметная, дрожь становилась все сильнее, распространяясь по всему телу.
— Что с тобой, Миньона, — вскричал он, — что с тобой?
Она подняла головку, взглянула на него и вдруг схватилась за сердце, будто пытаясь сдержать боль; он поднял ее, и она упала к нему на колени; он прижал ее к себе и поцеловал. Она не отозвалась ни пожатием руки, ни малейшим движением. Она крепко держалась за сердце и вдруг испустила крик, судорожно дергаясь всем телом, вскочила на ноги и тотчас упала, словно у нее подломились все суставы. Зрелище было ужасное.
— Дитя мое, — воскликнул он, поднимая ее и крепко сжимая в своих объятиях, — что с тобой, дитя мое?
Судороги не унимались, передаваясь от сердца к трясущимся конечностям; она повисла у него в объятиях. Он прижимал ее к груди, орошая слезами. И вдруг она вся напряглась, как бывает, когда терпишь жесточайшую телесную боль, и тут же вновь бурно ожили все ее члены; с быстротой спущенной пружины она бросилась ему на шею, а внутри у нее будто что-то прорвалось; и в тот же миг из ее сомкнутых глаз к нему на грудь хлынул поток слез. Он крепко держал ее. Она рыдала, и не подыщешь слов, чтобы описать безудержную силу этих слез. Длинные волосы распустились и свисали на лицо плачущей, казалось, все ее существо неотвратимо исходит ручьем слез. Оцепеневшие конечности оттаяли, и вся душа ее как будто излилась в слезах, Вильгельму стало страшно, что она истает в его объятиях и ничего не останется от нее. Он все крепче и крепче прижимал ее к себе.
— Дитя мое, — восклицал он, — ты ведь моя, дитя мое! Если это слово может тебя утешить, ты моя, моя! Я останусь с тобой, я не покину тебя!
Слезы ее все еще текли. Наконец она выпрямилась. Лицо ее осветилось теплой радостью.
— Отец мой! — воскликнула она. — Ты меня не покинешь! Ты будешь мне отцом! Я ведь твое дитя.
Нежно зазвучали за дверью струны арфы; старик принес самые свои задушевные песни, как вечернюю жертву другу, который все крепче прижимал к себе свое дитя, исполненный чистейшего несказаннейшего счастья.