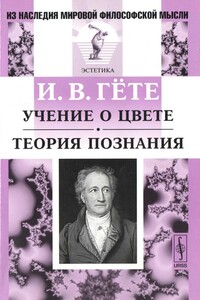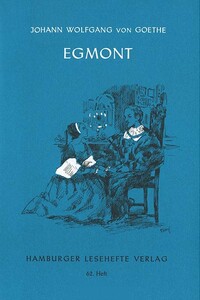— Друг мой, — подумав, заметил Вернер, — я всегда недоумевал, почему ты стараешься насильно вытравить из своей души то, что чувствуешь так живо. Может быть, я ошиба* юсь, но, на мой взгляд, ты поступил бы правильнее, если стал бы менее придирчив к себе, а не терзался бы противоречиями, неумолимо отказываясь от столь невинной услады и тем лишая себя всех прочих радостей.
— Я должен покаяться перед тобой, мой друг, — подхватил Вильгельм, — и, надеюсь, ты не подымешь меня на смех, если я признаюсь, что те же видения все еще пресле-» дуют меня, как я ни бегу их, и, заглянув к себе в сердце, вижу, что былые желания прочно, прочнее прежнего, гнездятся в нем. Но что сейчас остается мне, горемычному? Увы, когда душа моя протягивала объятия в бесконечность, стремясь охватить великое, тот, кто предсказал бы мне тогда, что длани ее сразу же будут отсечены, поверг бы меня в от-«чаяние. И сейчас еще, когда надо мной произнесен приговор, когда я утратил ту, что вместо божества должна была ввести меня в чертог моих мечтаний, мне остается лишь предаться горчайшим мукам. Ах, брат мой, — продолжал он, — я не бу «ду отрицать, что в тайных моих замыслах она была тем стержнем, на котором держится веревочная лестница; очертя голову воспарил искатель счастья ввысь, но крючок ломается, и он, разбившись, падает к подножью вожделенной цели. Мне нечем утешиться, не на что надеяться! Я не оставлю ни одной из этих жалких бумажонок, — воскликнул он, вскочил с места, снова схватил несколько тетрадей, разорвал их и швырнул в огонь.
Вернер тщетно пытался его удержать.
— Пусти меня! — крикнул Вильгельм. — Кому нужны Эти ничтожные листки? Для меня они уже не могут быть ни ступенью вверх, ни поощрением. Неужели они должны сохраниться, чтобы до конца дней моих мучить меня? Неужто они когда-нибудь станут посмешищем света, вместо того чтобы вызвать жалость и содрогание? Кто оплачет меня и мою долю? Мне понятны теперь жалобы поэтов, несчастливцев, ставших мудрецами поневоле. Долго почитал я себя несокрушимым, неуязвимым, но, увы, теперь я вижу, что нанесенная смолоду глубокая рана не даст мне воспрянуть и не затянется никогда; я чувствую, что унесу ее с собой в могилу. Да, ни на один день жизни не отпустит меня страдание, пока не доконает меня, и память о ней останется при мне до самой смерти, память о недостойной, ах, друг мой, — если говорить начистоту, не совсем уж недостойной! Сотни раз находил я ей оправдание в ее положении, в ее судьбе, Я был не в меру суров, ты безжалостно сковал меня твоей ледяной жестокостью, ты держал в плену мои смятенные чувства и домешал мне сделать то, что я обязан был сделать для нас обоих. Кто знает, в какое состояние я поверг ее, мало-помалу меня стали мучить угрызения совести, — как смел я бросить ее в таком отчаянном, беспомощном положении! А вдруг она могла оправдаться? Разве это невозможно? Сколько недомолвок вносят в жизнь смуту, сколько обстоятельств могут снискать прощение тяжелейшему проступку! Часто я представляю себе, как она тихо сидит, углубясь в себя, опершись головой на руки. «Вот какова верность и любовь, в которых ты мне клялся! — говорит она. — Можно ли таким грубым ударом оборвать нашу прекрасную совместную жизнь?»
Он разрыдался, упав лицом на стол и оросив слезами оставшиеся листки.
Вернер стоял над ним в полной растерянности. Он не был готов к такому внезапному порыву страсти, несколько раз пытался он перебить друга или перевести разговор, — все напрасно! Ему не под силу было противостоять буре. Но и тут в свои права вступила испытанная дружба. Выждав, когда утихнет бурный прилив горя, он своим молчаливым присутствием лучше всего показал, сколь непритворно и бескорыстно его участие. Так они и провели этот вечер: Вильгельм затих, прислушиваясь к отголоскам горя, а друг с ужасом вспоминал новую вспышку страсти, которую он долго держал в узде, надеясь, что успел ее победить добрыми советами и усердными увещеваниями.